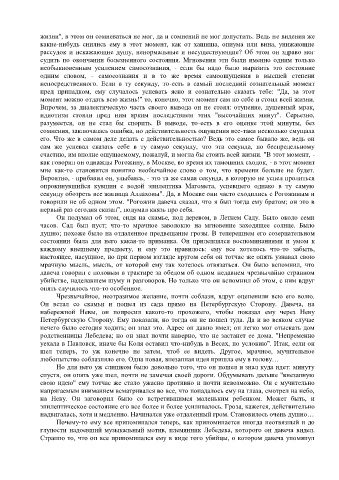Page 125 - Идиот
P. 125
жизни", в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Ведь не видения же
какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие
рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие? Об этом он здраво мог
судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только
необыкновенным усилением самосознания, - если бы надо было выразить это состояние
одним словом, - самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени
непосредственного. Если в ту секунду, то-есть в самый последний сознательный момент
пред припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать тебе: "Да, за этот
момент можно отдать всю жизнь!" то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни.
Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: отупение, душевный мрак,
идиотизм стояли пред ним ярким последствием этих "высочайших минут". Серьезно,
разумеется, он не стал бы спорить. В выводе, то-есть в его оценке этой минуты, без
сомнения, заключалась ошибка, но действительность ощущения все-таки несколько смущала
его. Что же в самом деле делать с действительностью? Ведь это самое бывало же, ведь он
сам же успевал сказать себе в ту самую секунду, что эта секунда, по беспредельному
счастию, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни. "В этот момент, -
как говорил он однажды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходок, - в этот момент
мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет.
Вероятно, - прибавил он, улыбаясь, - это та же самая секунда, в которую не успел пролиться
опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего однако в ту самую
секунду обозреть все жилища Аллаховы". Да, в Москве они часто сходились с Рогожиным и
говорили не об одном этом. "Рогожин давеча сказал, что я был тогда ему братом; он это в
первый раз сегодня сказал", подумал князь про себя.
Он подумал об этом, сидя на скамье, под деревом, в Летнем Саду. Было около семи
часов. Сад был пуст; что-то мрачное заволокло на мгновение заходящее солнце. Было
душно; похоже было на отдаленное предвещание грозы. В теперешнем его созерцательном
состоянии была для него какая-то приманка. Он прилеплялся воспоминаниями и умом к
каждому внешнему предмету, и ему это нравилось: ему все хотелось что-то забыть,
настоящее, насущное, но при первом взгляде кругом себя он тотчас же опять узнавал свою
мрачную мысль, мысль, от которой ему так хотелось отвязаться. Он было вспомнил, что
давеча говорил с половым в трактире за обедом об одном недавнем чрезвычайно странном
убийстве, наделавшем шуму и разговоров. Но только что он вспомнил об этом, с ним вдруг
опять случилось что-то особенное.
Чрезвычайное, неотразимое желание, почти соблазн, вдруг оцепенили всю его волю.
Он встал со скамьи и пошел из сада прямо на Петербургскую Сторону. Давеча, на
набережной Невы, он попросил какого-то прохожего, чтобы показал ему через Неву
Петербургскую Сторону. Ему показали, но тогда он не пошел туда. Да и во всяком случае
нечего было сегодня ходить; он знал это. Адрес он давно имел; он легко мог отыскать дом
родственницы Лебедева; но он знал почти наверно, что не застанет ее дома. "Непременно
уехала в Павловск, иначе бы Коля оставил что-нибудь в Весах, по условию". Итак, если он
шел теперь, то уж конечно не затем, чтоб ее видеть. Другое, мрачное, мучительное
любопытство соблазняло его. Одна новая, внезапная идея пришла ему в голову…
Но для него уж слишком было довольно того, что он пошел и знал куда идет: минуту
спустя, он опять уже шел, почти не замечая своей дороги. Обдумывать дальше "внезапную
свою идею" ему тотчас же стало ужасно противно и почти невозможно. Он с мучительно
напрягаемым вниманием всматривался во все, что попадалось ему на глаза, смотрел на небо,
на Неву. Он заговорил было со встретившимся маленьким ребенком. Может быть, и
эпилептическое состояние его все более и более усиливалось. Гроза, кажется, действительно
надвигалась, хотя и медленно. Начинался уже отдаленный гром. Становилось очень душно…
Почему-то ему все припоминался теперь, как припоминается иногда неотвязный и до
глупости надоевший музыкальный мотив, племянник Лебедева, которого он давеча видел.
Странно то, что он все припоминался ему в виде того убийцы, о котором давеча упомянул