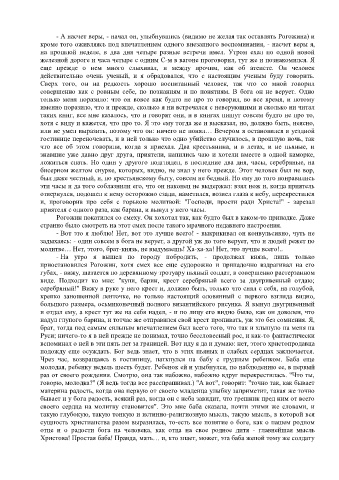Page 121 - Идиот
P. 121
- А насчет веры, - начал он, улыбнувшись (видимо не желая так оставлять Рогожина) и
кроме того оживляясь под впечатлением одного внезапного воспоминания, - насчет веры я,
на прошлой неделе, в два дня четыре разные встречи имел. Утром ехал по одной новой
железной дороге и часа четыре с одним С-м в вагоне проговорил, тут же и познакомился. Я
еще прежде о нем много слыхивал, и между прочим, как об атеисте. Он человек
действительно очень ученый, и я обрадовался, что с настоящим ученым буду говорить.
Сверх того, он на редкость хорошо воспитанный человек, так что со мной говорил
совершенно как с ровным себе, по познаниям и по понятиям. В бога он не верует. Одно
только меня поразило: что он вовсе как будто не про то говорил, во все время, и потому
именно поразило, что и прежде, сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал
таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то,
хотя с виду и кажется, что про то. Я это ему тогда же и высказал, но, должно быть, неясно,
или не умел выразить, потому что он: ничего не понял… Вечером я остановился в уездной
гостинице переночевать, и в ней только что одно убийство случилось, в прошлую ночь, так
что все об этом говорили, когда я приехал. Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и
знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной каморке,
ложиться спать. Но один у другого подглядел, в последние два дня, часы, серебряные, на
бисерном желтом снурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор,
был даже честный, и, по крестьянскому быту, совсем не бедный. Но ему до того понравились
эти часы и да того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял нож и, когда приятель
отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился
и, проговорив про себя с горькою молитвой: "Господи, прости ради Христа!" - зарезал
приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы.
Рогожин покатился со смеху. Он хохотал так, как будто был в каком-то припадке. Даже
странно было смотреть на этот смех после такого мрачного недавнего настроения.
- Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего! - выкрикивал он конвульсивно, чуть не
задыхаясь: - один совсем в бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по
молитве… Нет, этого, брат-князь, не выдумаешь! Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего!..
- На утро я вышел по городу побродить, - продолжал князь, лишь только
приостановился Рогожин, хотя смех все еще судорожно и припадочно вздрагивал на его
губах, - вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат, в совершенно растерзанном
виде. Подходит ко мне: "купи, барин, крест серебряный всего за двугривенный отдаю;
серебряный!" Вижу в руке у него крест и, должно быть, только что снял с себя, на голубой,
крепко заношенной ленточке, но только настоящий оловянный с первого взгляда видно,
большого размера, осьмиконечный полного византийского рисунка. Я вынул двугривенный
и отдал ему, а крест тут же на себя надел, - и по лицу его видно было, как он доволен, что
надул глупого барина, и тотчас же отправился свой крест пропивать, уж это без сомнения. Я,
брат, тогда под самым сильным впечатлением был всего того, что так и хлынуло на меня на
Руси; ничего-то я в ней прежде не понимал, точно бессловесный рос, и как-то фантастически
вспоминал о ней в эти пять лет за границей. Вот иду я да и думаю: нет, этого христопродавца
подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается.
Чрез час, возвращаясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Баба еще
молодая, ребенку недель шесть будет. Ребенок ей и улыбнулся, по наблюдению ее, в первый
раз от своего рождения. Смотрю, она так набожно, набожно вдруг перекрестилась. "Что ты,
говорю, молодка?" (Я ведь тогда все расспрашивал.) "А вот", говорит: "точно так, как бывает
материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же точно
бывает и у бога радость, всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник пред ним от всего
своего сердца на молитву становится". Это мне баба сказала, почти этими же словами, и
такую глубокую, такую тонкую и истинно-религиозную мысль, такую мысль, в которой вся
сущность христианства разом выразилась, то-есть все понятие о боге, как о нашем родном
отце и о радости бога на человека, как отца на свое родное дитя - главнейшая мысль
Христова! Простая баба! Правда, мать… и, кто знает, может, эта баба женой тому же солдату