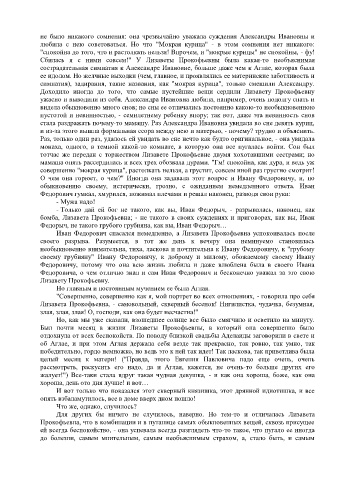Page 182 - Идиот
P. 182
не было никакого сомнения: она чрезвычайно уважала суждения Александры Ивановны и
любила с нею советоваться. Но что "Мокрая курица" - в этом сомнения нет никакого:
"спокойна до того, что и растолкать нельзя! Впрочем, и "мокрые курицы" не спокойны, - фу!
Сбилась я с ними совсем!" У Лизаветы Прокофьевны была какая-то необъяснимая
сострадательная симпатия к Александре Ивановне, больше даже чем к Аглае, которая была
ее идолом. Но желчные выходки (чем, главное, и проявлялись ее материнские заботливость и
симпатия), задирания, такие названия, как "мокрая курица", только смешили Александру.
Доходило иногда до того, что самые пустейшие вещи сердили Лизавету Прокофьевну
ужасно и выводили из себя. Александра Ивановна любила, например, очень подолгу спать и
видела обыкновенно много снов; но сны ее отличались постоянно какою-то необыкновенною
пустотой и невинностью, - семилетнему ребенку впору; так вот, даже эта невинность снов
стала раздражать почему-то мамашу. Раз Александра Ивановна увидала во сне девять куриц,
и из-за этого вышла формальная ссора между нею и матерью, - почему? трудно и объяснить.
Раз, только один раз, удалось ей увидать во сне нечто как будто оригинальное, - она увидала
монаха, одного, в темной какой-то комнате, в которую она все пугалась войти. Сон был
тотчас же передан с торжеством Лизавете Прокофьевне двумя хохотавшими сестрами; но
мамаша опять рассердилась и всех трех обозвала дурами. "Гм! спокойна, как дура, и ведь уж
совершенно "мокрая курица", растолкать нельзя, а грустит, совсем иной раз грустно смотрит!
О чем она горюет, о чем?" Иногда она задавала этот вопрос и Ивану Федоровичу, и, по
обыкновению своему, истерически, грозно, с ожиданием немедленного ответа. Иван
Федорович гумкал, хмурился, пожимал плечами и решал наконец, разводя свои руки:
- Мужа надо!
- Только дай ей бог не такого, как вы, Иван Федорыч, - разрывалась, наконец, как
бомба, Лизавета Прокофьевна; - не такого в своих суждениях и приговорах, как вы, Иван
Федорыч, не такого грубого грубияна, как вы, Иван Федорыч…
Иван Федорович спасался немедленно, а Лизавета Прокофьевна успокоивалась после
своего разрыва. Разумеется, в тот же день к вечеру она неминуемо становилась
необыкновенно внимательна, тиха, ласкова и почтительна к Ивану Федоровичу, к "грубому
своему грубияну" Ивану Федоровичу, к доброму и милому, обожаемому своему Ивану
Федоровичу, потому что она всю жизнь любила и даже влюблена была в своего Ивана
Федоровича, о чем отлично знал и сам Иван Федорович и бесконечно уважал за это свою
Лизавету Прокофьевну.
Но главным и постоянным мучением ее была Аглая.
"Совершенно, совершенно как я, мой портрет во всех отношениях, - говорила про себя
Лизавета Прокофьевна, - самовольный, скверный бесенок! Нигилистка, чудачка, безумная,
злая, злая, злая! О, господи, как она будет несчастна!"
Но, как мы уже сказали, взошедшее солнце все было смягчило и осветило на минуту.
Был почти месяц в жизни Лизаветы Прокофьевны, в который она совершенно было
отдохнула от всех беспокойств. По поводу близкой свадьбы Аделаиды заговорили в свете и
об Аглае, и при этом Аглая держала себя везде так прекрасно, так ровно, так умно, так
победительно, гордо немножко, но ведь это к ней так идет! Так ласкова, так приветлива была
целый месяц к матери! ("Правда, этого Евгения Павловича надо еще очень, очень
рассмотреть, раскусить его надо, да и Аглая, кажется, не очень-то больше других его
жалует!") Все-таки стала вдруг такая чудная девушка, - и как она хороша, боже, как она
хороша, день ото дня лучше! и вот…
И вот только что показался этот скверный князишка, этот дрянной идиотишка, и все
опять взбаламутилось, все в доме вверх дном пошло!
Что же, однако, случилось?
Для других бы ничего не случилось, наверно. Но тем-то и отличалась Лизавета
Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей, сквозь присущее
ей всегда беспокойство, - она успевала всегда разглядеть что-то такое, что пугало ее иногда
до болезни, самым мнительным, самым необъяснимым страхом, а, стало быть, и самым