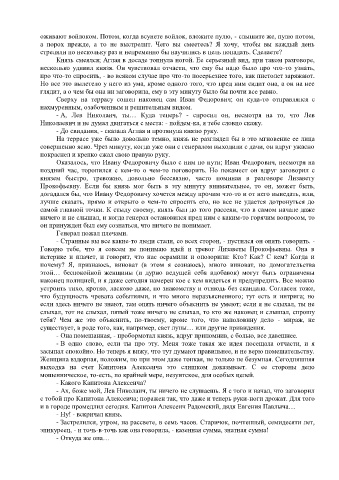Page 197 - Идиот
P. 197
оживают войлоком. Потом, когда всунете войлок, вложите пулю, - слышите же, пулю потом,
а порох прежде, а то не выстрелит. Чего вы смеетесь? Я хочу, чтобы вы каждый день
стреляли по нескольку раз и непременно бы научились в цель попадать. Сделаете?
Князь смеялся; Аглая в досаде топнула ногой. Ее серьезный вид, при таком разговоре,
несколько удивил князя. Он чувствовал отчасти, что ему бы надо было про что-то узнать,
про что-то спросить, - во всяком случае про что-то посерьезнее того, как пистолет заряжают.
Но все это вылетело у него из ума, кроме одного того, что пред ним сидит она, а он на нее
глядит, а о чем бы она ни заговорила, ему в эту минуту было бы почти все равно.
Сверху на террасу сошел наконец сам Иван Федорович; он куда-то отправлялся с
нахмуренным, озабоченным и решительным видом.
- А, Лев Николаич, ты… Куда теперь? - спросил он, несмотря на то, что Лев
Николаевич и не думал двигаться с места: - пойдем-ка, я тебе словцо скажу.
- До свидания, - сказала Аглая и протянула князю руку.
На террасе уже было довольно темно, князь не разглядел бы в это мгновение ее лица
совершенно ясно. Чрез минуту, когда уже они с генералом выходили с дачи, он вдруг ужасно
покраснел и крепко сжал свою правую руку.
Оказалось, что Ивану Федоровичу было с ним по пути; Иван Федорович, несмотря на
поздний час, торопился с кем-то о чем-то поговорить. Но покамест он вдруг заговорил с
князем быстро, тревожно, довольно бессвязно, часто поминая в разговоре Лизавету
Прокофьевну. Если бы князь мог быть в эту минуту внимательнее, то он, может быть,
догадался бы, что Ивану Федоровичу хочется между прочим что-то и от него выведать, или,
лучше сказать, прямо и открыто о чем-то спросить его, но все не удается дотронуться до
самой главной точки. К стыду своему, князь был до того рассеян, что в самом начале даже
ничего и не слышал, и когда генерал остановился пред ним с каким-то горячим вопросом, то
он принужден был ему сознаться, что ничего не понимает.
Генерал пожал плечами.
- Странные вы все какие-то люди стали, со всех сторон, - пустился он опять говорить. -
Говорю тебе, что я совсем не понимаю идей и тревог Лизаветы Прокофьевны. Она в
истерике и плачет, и говорит, что нас осрамили и опозорили: Кто? Как? С кем? Когда и
почему? Я, признаюсь, виноват (в этом я сознаюсь), много виноват, но домогательства
этой… беспокойной женщины (и дурно ведущей себя вдобавок) могут быть ограничены
наконец полицией, и я даже сегодня намерен кое с кем видеться и предупредить. Все можно
устроить тихо, кротко, ласково даже, по знакомству и отнюдь без скандала. Согласен тоже,
что будущность чревата событиями, и что много неразъясненного; тут есть и интрига; но
если здесь ничего не знают, там опять ничего объяснить не умеют; если я не слыхал, ты не
слыхал, тот не слыхал, пятый тоже ничего не слыхал, то кто же наконец и слышал, спрошу
тебя? Чем же это объяснить, по-твоему, кроме того, что наполовину дело - мираж, не
существует, в роде того, как, например, свет луны… или другие привидения.
- Она помешанная, - пробормотал князь, вдруг припомнив, с болью, все давешнее.
- В одно слово, если ты про эту. Меня тоже такая же идея посещала отчасти, и я
засыпал спокойно. Но теперь я вижу, что тут думают правильнее, и не верю помешательству.
Женщина вздорная, положим, но при этом даже тонкая, не только не безумная. Сегодняшняя
выходка на счет Капитона Алексеича это слишком доказывает. С ее стороны дело
мошенническое, то-есть, по крайней мере, иезуитское, для особых целей.
- Какого Капитона Алексеича?
- Ах, боже мой, Лев Николаич, ты ничего не слушаешь. Я с того и начал, что заговорил
с тобой про Капитона Алексеича; поражен так, что даже и теперь руки-ноги дрожат. Для того
и в городе промедлил сегодня. Капитон Алексеич Радомский, дядя Евгения Павлыча…
- Ну! - вскричал князь.
- Застрелился, утром, на рассвете, в семь часов. Старичок, почтенный, семидесяти лет,
эпикуреец, - и точь-в-точь как она говорила, - казенная сумма, знатная сумма!
- Откуда же она…