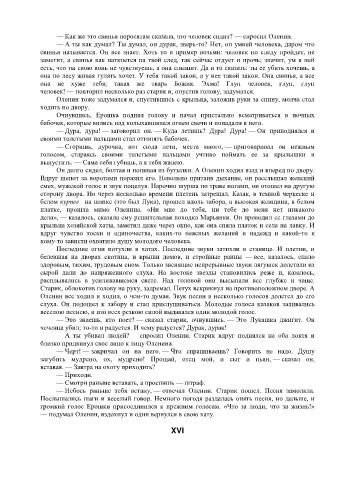Page 33 - Казаки
P. 33
— Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.
— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что
свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не
заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней
есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а
она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все
она не хуже тебя; такая же тварь Божия. Эхма! Глуп человек, глуп, глуп
человек! — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался.
Оленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал
ходить по двору.
Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных
бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.
— Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и
своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.
— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, — приговаривал он нежным
голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и
выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею.
Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки. А Оленин ходил взад и вперед по двору.
Вдруг шепот за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский
смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую
сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак, в темной черкеске и
белом курпее на шапке (это был Лука), прошел вдоль забора, а высокая женщина, в белом
платке, прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого
дела», — казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до
крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И
вдруг чувство тоски и одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к
кому-то зависти охватило душу молодого человека.
Последние огни потухли в хатах. Последние звуки затихли в станице. И плетни, и
белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины — все, казалось, спало
здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из
сырой дали до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось,
расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпали все глубже и чаще.
Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А
Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его
слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались
веселою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.
— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись. — Это Лукашка джигит. Он
чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!
— А ты убивал людей? — спросил Оленин. Старик вдруг поднялся на оба локтя и
близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.
— Черт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу
загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт и пьян, — сказал он,
вставая. — Завтра на охоту приходить?
— Приходи.
— Смотри раньше вставать, а проспишь — штраф.
— Небось раньше тебя встану, — отвечал Оленин. Старик пошел. Песня замолкла.
Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя раздалась опять песня, но дальше, и
громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Что за люди, что за жизнь!»
— подумал Оленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.
XVI