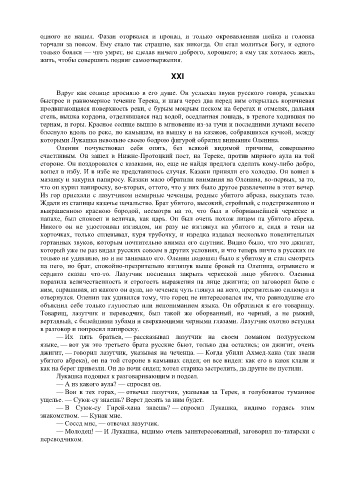Page 45 - Казаки
P. 45
одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка
торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться Богу, и одного
только боялся — что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить,
жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.
XXI
Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услыхал звуки русского говора, услыхал
быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая
продвигающаяся поверхность реки, с бурым мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя
степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в треноге ходившая по
тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело
блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между
которыми Лукашка невольно своею бодрою фигурой обратил внимание Оленина.
Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно
счастливым. Он зашел в Нижне-Протоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той
стороне. Он поздоровался с казаками, но, еще не найдя предлога сделать кому-либо добро,
вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в
мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то,
что он курил папироску, во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер.
Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело.
Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженною и
выкрашенною красною бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и
папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека.
Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на
корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных
гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит,
который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не
только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть
на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и
сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкеской лицо убитого. Оленина
поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с
ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и
отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его
объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу.
Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий,
вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил
в разговор и попросил папироску.
— Их пять братьев, — рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском
языке, — вот уж это третьего брата русские бьют, только два остались; он джигит, очень
джигит, — говорил лазутчик, указывая на чеченца. — Когда убили Ахмед-хана (так звали
убитого абрека), он на той стороне в камышах сидел; он все видел: как его в каюк клали и
как на берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить, да другие не пустили.
Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.
— А из какого аула? — спросил он.
— Вон в тех горах, — отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное
ущелье. — Суюк-су знаешь? Верст десять за ним будет.
— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка, видимо гордясь этим
знакомством. — Кунак мне.
— Сосед мне, — отвечал лазутчик.
— Молодец! — И Лукашка, видимо очень заинтересованный, заговорил по-татарски с
переводчиком.