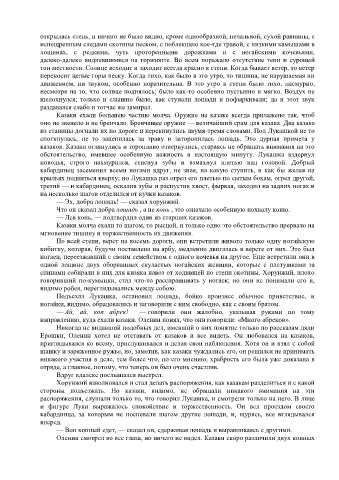Page 81 - Казаки
P. 81
открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с
испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в
лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями,
далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый
тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер
переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни
движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно,
несмотря на то, что солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не
шелохнулся; только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали; да и этот звук
раздавался слабо и тотчас же замирал.
Казаки ехали большею частию молча. Оружие на казаке всегда прилажено так, чтоб
оно не звенело и не бренчало. Бренчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака
из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то
споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у
казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это
обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул
поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый
кабардинец засеменил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на
крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой,
третий — и кабардинец, оскалив зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и
на несколько шагов отделился от кучки казаков.
— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.
Что он сказал добра лошадь , а не конь , это означало особенную похвалу коню.
— Лев конь, — подтвердил один из старших казаков.
Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прервало на
мгновение тишину и торжественность их движения.
По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую
кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был
ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в
одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за
спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо
говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и,
видимо робея, переглядывались между собою.
Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и
ногайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.
— Ай, ай, коп абрек! — говорили они жалобно, указывая руками по тому
направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «Много абреков».
Никогда не видавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди
Ерошки, Оленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков,
приглядывался ко всему, прислушивался и делая свои наблюдения. Хотя он и взял с собой
шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать
никакого участия в деле, тем более что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в
отряде, а главное, потому, что теперь он был очень счастлив.
Вдруг вдалеке послышался выстрел.
Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой
стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти
распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице
и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего
кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался
вперед.
— Вон конный едет, — сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.
Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных