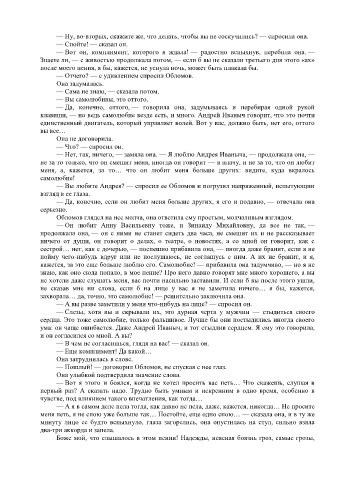Page 111 - Обломов
P. 111
— Ну, во-вторых, скажите же, что делать, чтобы вы не соскучились? — спросила она.
— Спойте! — сказал он.
— Вот он, комплимент, которого я ждала! — радостно вспыхнув, перебила она. —
Знаете ли, — с живостью продолжала потом, — если б вы не сказали третьего дня этого «ах»
после моего пения, я бы, кажется, не уснула ночь, может быть плакала бы.
— Отчего? — с удивлением спросил Обломов.
Она задумалась.
— Сама не знаю, — сказала потом.
— Вы самолюбивы, это оттого.
— Да, конечно, оттого, — говорила она, задумываясь и перебирая одной рукой
клавиши, — но ведь самолюбие везде есть, и много. Андрей Иваныч говорит, что это почти
единственный двигатель, который управляет волей. Вот у вас, должно быть, нет его, оттого
вы все…
Она не договорила.
— Что? — спросил он.
— Нет, так, ничего, — замяла она. — Я люблю Андрея Иваныча, — продолжала она, —
не за то только, что он смешит меня, иногда он говорит — я плачу, и не за то, что он любит
меня, а, кажется, за то… что он любит меня больше других: видите, куда вкралось
самолюбие!
— Вы любите Андрея? — спросил ее Обломов и погрузил напряженный, испытующии
взгляд в ее глаза.
— Да, конечно, если он любит меня больше других, я его и подавно, — отвечала она
серьезно.
Обломов глядел на нее молча, она ответила ему простым, молчаливым взглядом.
— Он любит Анну Васильевну тоже, и Зинаиду Михайловну, да все не так, —
продолжала она, — он с ними не станет сидеть два часа, не смешит их и не рассказывает
ничего от души, он говорит о делах, о театре, о новостях, а со мной он говорит, как с
сестрой… нет, как с дочерью, — поспешно прибавила она, — иногда даже бранит, если я не
пойму чего-нибудь вдруг или не послушаюсь, не соглашусь с ним. А их не бранит, и я,
кажется, за это еще больше люблю его. Самолюбие! — прибавила она задумчиво, — но я не
знаю, как оно сюда попало, в мое пение? Про него давно говорят мне много хорошего, а вы
не хотели даже слушать меня, вас почти насильно заставили. И если б вы после этого ушли,
не сказав мне ни слова, если б на лице у вас я не заметила ничего… я бы, кажется,
захворала… да, точно, это самолюбие! — решительно заключила она.
— А вы разве заметили у меня что-нибудь на лице? — спросил он.
— Слезы, хотя вы и скрывали их, это дурная черта у мужчин — стыдиться своего
сердца. Это тоже самолюбие, только фальшивое. Лучше бы они постыдились иногда своего
ума: он чаще ошибается. Даже Андрей Иваныч, и тот стыдлив сердцем. Я ему это говорила,
и он согласился со мной. А вы?
— В чем не согласишься, глядя на вас! — сказал он.
— Еще комплимент! Да какой…
Она затруднилась в слове.
— Пошлый! — договорил Обломов, не спуская с нее глаз.
Она улыбкой подтвердила значение слова.
— Вот я этого и боялся, когда не хотел просить вас петь… Что скажешь, слушая в
первый раз? А сказать надо. Трудно быть умным и искренним в одно время, особенно в
чувстве, под влиянием такого впечатления, как тогда…
— А я в самом деле пела тогда, как давно не пела, даже, кажется, никогда… Не просите
меня петь, я не спою уже больше так… Постойте, еще одно спою… — сказала она, и в ту же
минуту лицо ее будто вспыхнуло, глаза загорелись, она опустилась на стул, сильно взяла
два-три аккорда и запела.
Боже мой, что слышалось в этом пении! Надежды, неясная боязнь гроз, самые грозы,