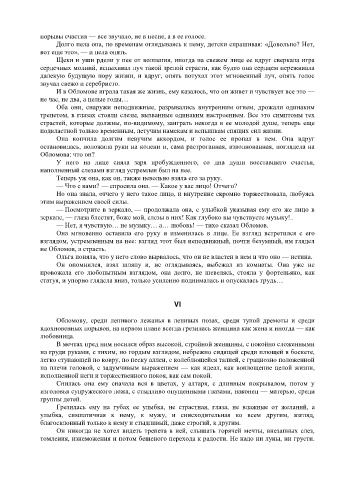Page 112 - Обломов
P. 112
порывы счастия — все звучало, не в песне, а в ее голосе.
Долго пела она, по временам оглядываясь к нему, детски спрашивая: «Довольно? Нет,
вот еще это», — и пела опять.
Щеки и уши рдели у нее от волнения, иногда на свежем лице ее вдруг сверкала игра
сердечных молний, вспыхивал луч такой зрелой страсти, как будто она сердцем переживала
далекую будущую пору жизни, и вдруг, опять потухал этот мгновенный луч, опять голос
звучал свежо и серебристо.
И в Обломове играла такая же жизнь, ему казалось, что он живет и чувствует все это —
не час, не два, а целые годы…
Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутренним огнем, дрожали одинаким
трепетом, в глазах стояли слезы, вызванные одинаким настроением. Все это симптомы тех
страстей, которые должны, по-видимому, заиграть некогда в ее молодой душе, теперь еще
подвластной только временным, летучим намекам и вспышкам спящих сил жизни.
Она кончила долгим певучим аккордом, и голос ее пропал в нем. Она вдруг
остановилась, положила руки на колени и, сама растроганная, взволнованная, поглядела на
Обломова: что он?
У него на лице сияла заря пробужденного, со дна души восставшего счастья,
наполненный слезами взгляд устремлен был на нее.
Теперь уж она, как он, также невольно взяла его за руку.
— Что с вами? — спросила она. — Какое у вас лицо! Отчего?
Но она знала, отчего у него такое лицо, и внутренне скромно торжествовала, любуясь
этим выражением своей силы.
— Посмотрите в зеркало, — продолжала она, с улыбкой указывая ему его же лицо в
зеркале, — глаза блестят, боже мой, слезы в них! Как глубоко вы чувствуете музыку!..
— Нет, я чувствую… не музыку… а… любовь! — тихо сказал Обломов.
Она мгновенно оставила его руку и изменилась в лице. Ее взгляд встретился с его
взглядом, устремленным на нее: взгляд этот был неподвижный, почти безумный, им глядел
не Обломов, а страсть.
Ольга поняла, что у него слово вырвалось, что он не властен в нем и что оно — истина.
Он опомнился, взял шляпу и, не оглядываясь, выбежал из комнаты. Она уже не
провожала его любопытным взглядом, она долго, не шевелясь, стояла у фортепьяно, как
статуя, и упорно глядела вниз, только усиленно поднималась и опускалась грудь…
VI
Обломову, среди ленивого лежанья в ленивых позах, среди тупой дремоты и среди
вдохновенных порывов, на первом плане всегда грезилась женщина как жена и иногда — как
любовница.
В мечтах пред ним носился образ высокой, стройной женщины, с покойно сложенными
на груди руками, с тихим, но гордым взглядом, небрежно сидящей среди плющей в боскете,
легко ступающей по ковру, по песку аллеи, с колеблющейся талией, с грациозно положенной
на плечи головой, с задумчивым выражением — как идеал, как воплощение целой жизни,
исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой.
Снилась она ему сначала вся в цветах, у алтаря, с длинным покрывалом, потом у
изголовья супружеского ложа, с стыдливо опущенными глазами, наконец — матерью, среди
группы детей.
Грезилась ему на губах ее улыбка, не страстная, глаза, не влажные от желаний, а
улыбка, симпатичная к нему, к мужу, и снисходительная ко всем другим, взгляд,
благосклонный только к нему и стыдливый, даже строгий, к другим.
Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячей мечты, внезапных слез,
томления, изнеможения и потом бешеного перехода к радости. Не надо ни луны, ни грусти.