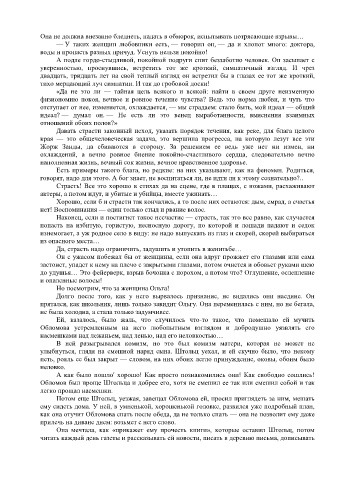Page 113 - Обломов
P. 113
Она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы…
— У таких женщин любовники есть, — говорил он, — да и хлопот много: доктора,
воды и пропасть разных причуд. Уснуть нельзя покойно!
А подле гордо-стыдливой, покойной подруги спит беззаботно человек. Он засыпает с
уверенностью, проснувшись, встретить тот же кроткий, симпатичный взгляд. И чрез
двадцать, тридцать лет на свой теплый взгляд он встретил бы в глазах ее тот же кроткий,
тихо мерцающий луч симпатии. И так до гробовой доски!
«Да не это ли — тайная цель всякого и всякой: найти в своем друге неизменную
физиономию покоя, вечное и ровное течение чувства? Ведь это норма любви, и чуть что
отступает от нее, изменяется, охлаждается, — мы страдаем: стало быть, мой идеал — общий
идеал? — думал он. — Не есть ли это венец выработанности, выяснения взаимных
отношений обоих полов?»
Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке, для блага целого
края — это общечеловеческая задача, это вершина прогресса, на которую лезут все эти
Жорж Занды, да сбиваются в сторону. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни
охлаждений, а вечно ровное биение покойно-счастливого сердца, следовательно вечно
наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье.
Есть примеры такого блага, но редкие: на них указывают, как на феномен. Родиться,
говорят, надо для этого. А бог знает, не воспитаться ли, не идти ли к этому сознательно?..
Страсть! Все это хорошо в стихах да на сцене, где в плащах, с ножами, расхаживают
актеры, а потом идут, и убитые и убийцы, вместе ужинать…
Хорошо, если б и страсти так кончались, а то после них остаются: дым, смрад, а счастья
нет! Воспоминания — один только стыд и рвание волос.
Наконец, если и постигнет такое несчастие — страсть, так это все равно, как случается
попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой и лошади падают и седок
изнемогает, а уж родное село в виду: не надо выпускать из глаз и скорей, скорей выбираться
из опасного места…
Да, страсть надо ограничить, задушить и утопить в женитьбе…
Он с ужасом побежал бы от женщины, если она вдруг прожжет его глазами или сама
застонет, упадет к нему на плечо с закрытыми глазами, потом очнется и обовьет руками шею
до удушья… Это фейерверк, взрыв бочонка с порохом, а потом что? Оглушение, ослепление
и опаленные волосы!
Но посмотрим, что за женщина Ольга!
Долго после того, как у него вырвалось признание, не видались они наедине. Он
прятался, как школьник, лишь только завидит Ольгу. Она переменилась с ним, но не бегала,
не была холодна, а стала только задумчивее.
Ей, казалось, было жаль, что случилось что-то такое, что помешало ей мучить
Обломова устремленным на него любопытным взглядом и добродушно уязвлять его
насмешками над лежаньем, над ленью, над его неловкостью…
В ней разыгрывался комизм, но это был комизм матери, которая не может не
улыбнуться, глядя на смешной наряд сына. Штольц уехал, и ей скучно было, что некому
петь, рояль ее был закрыт — словом, на них обоих легло принуждение, оковы, обоим было
неловко.
А как было пошло' хорошо! Как просто познакомились они! Как свободно сошлись!
Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя не смешил ее так или смешил собой и так
легко прощал насмешки.
Потом еще Штольц, уезжая, завещал Обломова ей, просил приглядеть за ним, мешать
ему сидеть дома. У ней, в умненькой, хорошенькой головке, развился уже подробный план,
как она отучит Обломова спать после обеда, да не только спать — она не позволит ему даже
прилечь на диване днем: возьмет с него слово.
Она мечтала, как «прикажет ему прочесть книги», которые оставил Штольц, потом
читать каждый день газеты и рассказывать ей новости, писать в деревню письма, дописывать