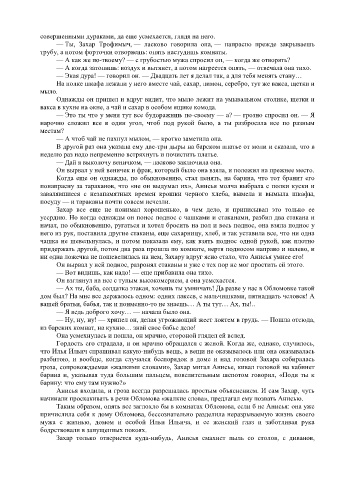Page 119 - Обломов
P. 119
совершенными дураками, да еще усмехается, глядя на него.
— Ты, Захар Трофимыч, — ласково говорила она, — напрасно прежде закрываешь
трубу, а потом форточки отворяешь: опять настудишь комнаты.
— А как же по-твоему? — с грубостью мужа спросил он, — когда же отворять?
— А когда затопишь: воздух и вытянет, а потом нагреется опять, — отвечала она тихо.
— Экая дура! — говорил он. — Двадцать лет я делал так, а для тебя менять стану…
На полке шкафа лежали у него вместе чай, сахар, лимон, серебро, тут же вакса, щетки и
мыло.
Однажды он пришел и вдруг видит, что мыло лежит на умывальном столике, щетки и
вакса в кухне на окне, а чай и сахар в особом ящике комода.
— Это ты что у меня тут все будоражишь по-своему — а? — грозно спросил он. — Я
нарочно сложил все в один угол, чтоб под рукой было, а ты разбросала все по разным
местам?
— А чтоб чай не пахнул мылом, — кротко заметила она.
В другой раз она указала ему две-три дыры на барском платье от моли и сказала, что в
неделю раз надо непременно встряхнуть и почистить платье.
— Дай я выколочу веничком, — ласково заключила она.
Он вырвал у ней веничек и фрак, который было она взяла, и положил на прежнее место.
Когда еще он однажды, по обыкновению, стал пенять, на барина, что тот бранит его
понапрасну за тараканов, что «не он выдумал их», Анисья молча выбрала с полки куски и
завалявшиеся с незапамятных времен крошки черного хлеба, вымела и вымыла шкафы,
посуду — и тараканы почти совсем исчезли.
Захар все еще не понимал хорошенько, в чем дело, и приписывал это только ее
усердию. Но когда однажды он понес поднос с чашками и стаканами, разбил два стакана и
начал, по обыкновению, ругаться и хотел бросить на пол и весь поднос, она взяла поднос у
него из рук, поставила другие стаканы, еще сахарницу, хлеб, и так уставила все, что ни одна
чашка не шевельнулась, и потом показала ему, как взять поднос одной рукой, как плотно
придержать другой, потом два раза прошла по комнате, вертя подносом направо и налево, и
ни одна ложечка не пошевелилась на нем, Захару вдруг ясно стало, что Анисья умнее его!
Он вырвал у ней поднос, разронял стаканы и уже с тех пор не мог простить ей этого.
— Вот видишь, как надо! — еще прибавила она тихо.
Он взглянул на нее с тупым высокомерием, а она усмехается.
— Ах ты, баба, солдатка этакая, хочешь ты умничать! Да разве у нас в Обломовке такой
дом был? На мне все держалось одном: одних лакеев, с мальчишками, пятнадцать человек! А
вашей братьи, бабья, так и поименно-то не знаешь… А ты тут… Ах, ты!..
— Я ведь доброго хочу… — начала было она.
— Ну, ну, ну! — хрипел он, делая угрожающий жест локтем в грудь. — Пошла отсюда,
из барских комнат, на кухню… знай свое бабье дело!
Она усмехнулась и пошла, он мрачно, стороной глядел ей вслед.
Гордость его страдала, и он мрачно обращался с женой. Когда же, однако, случилось,
что Илья Ильич спрашивал какую-нибудь вещь, а вещи не оказывалось или она оказывалась
разбитою, и вообще, когда случался беспорядок в доме и над головой Захара собиралась
гроза, сопровождаемая «жалкими словами», Захар мигал Анисье, кивал головой на кабинет
барина и, указывая туда большим пальцем, повелительным шепотом говорил, «Поди ты к
барину: что ему там нужно?»
Анисья входила, и гроза всегда разрешалась простым объяснением. И сам Захар, чуть
начинали проскакивать в речи Обломова «жалкие слова», предлагал ему позвать Анисью.
Таким образом, опять все заглохло бы в комнатах Обломова, если б не Анисья: она уже
причислила себя к дому Обломова, бессознательно разделила неразрываемую жизнь своего
мужа с жизнью, домом и особой Ильи Ильича, и ее женский глаз и заботливая рука
бодрствовали в запущенных покоях.
Захар только отвернется куда-нибудь, Анисья смахнет пыль со столов, с диванов,