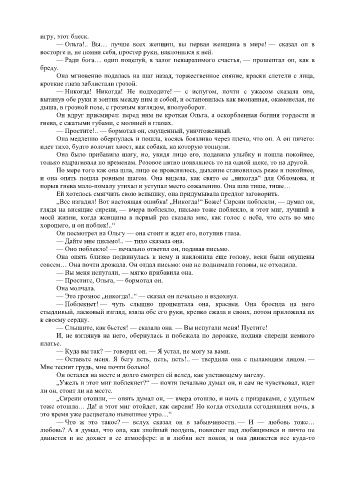Page 147 - Обломов
P. 147
игру, этот блеск.
— Ольга!.. Вы… лучше всех женщин, вы первая женщина в мире! — сказал он в
восторге и, не помня себя, простер руки, наклонился к ней.
— Ради бога… один поцелуй, в залог невыразимого счастья, — прошептал он, как в
бреду.
Она мгновенно подалась на шаг назад, торжественное сияние, краски слетели с лица,
кроткие глаза заблистали грозой.
— Никогда! Никогда! Не подходите! — с испугом, почти с ужасом сказала она,
вытянув обе руки и зонтик между ним и собой, и остановилась как вкопанная, окаменелая, не
дыша, в грозной позе, с грозным взглядом, вполуоборот.
Он вдруг присмирел: перед ним не кроткая Ольга, а оскорбленная богиня гордости и
гнева, с сжатыми губами, с молнией в глазах.
— Простите!.. — бормотал он, смущенный, уничтоженный.
Она медленно обернулась и пошла, косясь боязливо через плечо, что он. А он ничего:
идет тихо, будто волочит хвост, как собака, на которую топнули.
Она было прибавила шагу, но, увидя лицо его, подавила улыбку и пошла покойнее,
только вздрагивала по временам. Розовое пятно появлялось то на одной щеке, то на другой.
По мере того как она шла, лицо ее прояснялось, дыхание становилось реже и покойнее,
и она опять пошла ровным шагом. Она видела, как свято ее „никогда“ для Обломова, и
порыв гнева мало-помалу утихал и уступал место сожалению. Она шла тише, тише…
Ей хотелось смягчить свою вспышку, она придумывала предлог заговорить.
„Все изгадил! Вот настоящая ошибка! „Никогда!“ Боже! Сирени поблекли, — думал он,
глядя на висящие сирени, — вчера поблекло, письмо тоже поблекло, и этот миг, лучший в
моей жизни, когда женщина в первый раз сказала мне, как голос с неба, что есть во мне
хорошего, и он поблек!..“
Он посмотрел на Ольгу — она стоит и ждет его, потупив глаза.
— Дайте мне письмо!.. — тихо сказала она.
— Оно поблекло! — печально ответил он, подавая письмо.
Она опять близко подвинулась к нему и наклонила еще голову, веки были опущены
совсем… Она почти дрожала. Он отдал письмо: она не поднимала головы, не отходила.
— Вы меня испугали, — мягко прибавила она.
— Простите, Ольга, — бормотал он.
Она молчала.
— Это грозное „никогда!..“ — сказал он печально и вздохнул.
— Поблекнет! — чуть слышно прошептала она, краснея. Она бросила на него
стыдливый, ласковый взгляд, взяла обе его руки, крепко сжала в своих, потом приложила их
к своему сердцу.
— Слышите, как бьется! — сказала она. — Вы испугали меня! Пустите!
И, не взглянув на него, обернулась и побежала по дорожке, подняв спереди немного
платье.
— Куда вы так? — говорил он. — Я устал, не могу за вами.
— Оставьте меня. Я бегу петь, петь, петь!.. — твердила она с пылающим лицом. —
Мне теснит грудь, мне почти больно!
Он остался на месте и долго смотрел ей вслед, как улетающему ангелу.
„Ужель и этот миг поблекнет?“ — почти печально думал он, и сам не чувствовал, идет
ли он, стоит ли на месте.
„Сирени отошли, — опять думал он, — вчера отошло, и ночь с призраками, с удушьем
тоже отошла… Да! и этот миг отойдет, как сирени! Но когда отходила сегодняшняя ночь, в
это время уже расцветало нынешнее утро…“
— Что ж это такое? — вслух сказал он в забывчивости. — И — любовь тоже…
любовь? А я думал, что она, как знойный полдень, повиснет над любящимися и ничто не
двинется и не дохнет в ее атмосфере: и в любви нет покоя, и она движется все куда-то