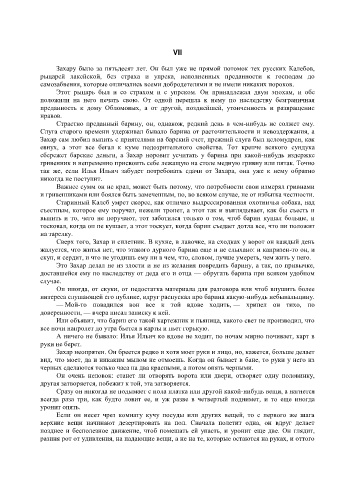Page 37 - Обломов
P. 37
VII
Захару было за пятьдесят лет. Он был уже не прямой потомок тех русских Калебов,
рыцарей лакейской, без страха и упрека, исполненных преданности к господам до
самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков.
Этот рыцарь был и со страхом и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе
положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная
преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение
нравов.
Страстно преданный барину, он, однакож, редкий день в чем-нибудь не солжет ему.
Слуга старого времени удерживал бывало барина от расточительности и невоздержания, а
Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет, прежний слуга был целомудрен, как
евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства. Тот крепче всякого сундука
сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке
гривенник и непременно присвоить себе лежащую на столе медную гривну или пятак. Точно
так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара, она уже к нему обратно
никогда не поступит.
Важнее сумм он не крал, может быть потому, что потребности свои измерял гривнами
и гривенниками или боялся быть замеченным, но, во всяком случае, не от избытка честности.
Старинный Калеб умрет скорее, как отлично выдрессированная охотничья собака, над
съестным, которое ему поручат, нежели тронет, а этот так и выглядывает, как бы съесть и
выпить и то, чего не поручают, тот заботился только о том, чтоб барин кушал больше, и
тосковал, когда он не кушает, а этот тоскует, когда барин съедает дотла все, что ни положит
на тарелку.
Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день
жалуется, что житья нет, что этакого дурного барина еще и не слыхано: и капризен-то он, и
скуп, и сердит, и что не угодишь ему ни в чем, что, словом, лучше умереть, чем жить у него.
Это Захар делал не из злости и не из желания повредить барину, а так, по привычке,
доставшейся ему по наследству от деда его и отца — обругать барина при всяком удобном
случае.
Он иногда, от скуки, от недостатка материала для разговора или чтоб внушить более
интереса слушающей его публике, вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину.
— Мой-то повадился вон все к той вдове ходить, — хрипел он тихо, по
доверенности, — вчера писал записку к ней.
Или объявит, что барин его такой картежник и пьяница, какого свет не производил, что
все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькую.
А ничего не бывало: Илья Ильич ко вдове не ходит, по ночам мирно почивает, карт в
руки не берет.
Захар неопрятен. Он бреется редко и хотя моет руки и лицо, но, кажется, больше делает
вид, что моет, да и никаким мылом не отмоешь. Когда он бывает в бане, то руки у него из
черных сделаются только часа на два красными, а потом опять черными.
Он очень неловок: станет ли отворять ворота или двери, отворяет одну половинку,
другая затворяется, побежит к той, эта затворяется.
Сразу он никогда не подымает с пола платка или другой какой-нибудь вещи, а нагнется
всегда раза три, как будто ловит ее, и уж разве в четвертый поднимет, и то еще иногда
уронит опять.
Если он несет чрез комнату кучу посуды или других вещей, то с первого же шага
верхние вещи начинают дезертировать на пол. Сначала полетит одна, он вдруг делает
позднее и бесполезное движение, чтоб помешать ей упасть, и уронит еще две. Он глядит,
разиня рот от удивления, на падающие вещи, а не на те, которые остаются на руках, и оттого