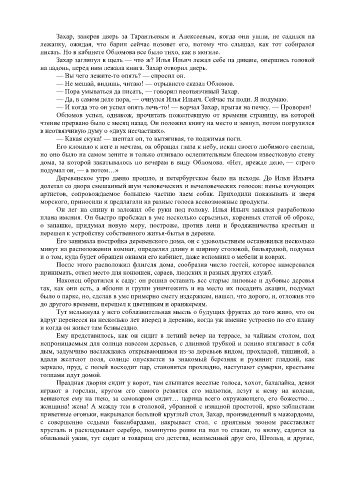Page 41 - Обломов
P. 41
Захар, заперев дверь за Тарантьевым и Алексеевым, когда они ушли, не садился на
лежанку, ожидая, что барин сейчас позовет его, потому что слышал, как тот собирался
писать. Но в кабинете Обломова все было тихо, как в могиле.
Захар заглянул в щель — что ж? Илья Ильич лежал себе на диване, опершись головой
на ладонь, перед ним лежала книга. Захар отворил дверь.
— Вы чего лежите-то опять? — спросил он.
— Не мешай, видишь, читаю! — отрывисто сказал Обломов.
— Пора умываться да писать, — говорил неотвязчивый Захар.
— Да, в самом деле пора, — очнулся Илья Ильич. Сейчас ты поди. Я подумаю.
— И когда это он успел опять лечь-то! — ворчал Захар, прыгая на печку. — Проворен!
Обломов успел, однакож, прочитать пожелтевшую от времени страницу, на которой
чтение прервано было с месяц назад. Он положил книгу на место и зевнул, потом погрузился
в неотвязчивую думу о «двух несчастиях».
— Какая скука! — шептал он, то вытягивая, то поджимая ноги.
Его клонило к неге и мечтам, он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила,
но оно было на самом зените и только отливало ослепительным блеском известковую стену
дома, за которой закатывалось по вечерам в виду Обломова. «Нет, прежде дело, — строго
подумал он, — а потом…»
Деревенское утро давно прошло, и петербургское было на исходе. До Ильи Ильича
долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов: пенье кочующих
артистов, сопровождаемое большею частию лаем собак. Приходили показывать и зверя
морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты.
Он лег на спину и заложил обе руки под голову. Илья Ильич занялся разработкою
плана имения. Он быстро пробежал в уме несколько серьезных, коренных статей об оброке,
о запашке, придумал новую меру, построже, против лени и бродяжничества крестьян и
перешел к устройству собственного житья-бытья в деревне.
Его занимала постройка деревенского дома, он с удовольствием остановился несколько
минут на расположении комнат, определил длину и ширину столовой, бильярдной, подумал
и о том, куда будет обращен окнами его кабинет, даже вспомнил о мебели и коврах.
После этого расположил флигеля дома, сообразив число гостей, которое намеревался
принимать, отвел место для конюшен, сараев, людских и разных других служб.
Наконец обратился к саду: он решил оставить все старые липовые и дубовые деревья
так, как они есть, а яблони и груши уничтожить и на место их посадить акации, подумал
было о парке, но, сделав в уме примерно смету издержкам, нашел, что дорого, и, отложив это
до другого времени, перешел к цветникам и оранжереям.
Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах до того живо, что он
вдруг перенесся на несколько лет вперед в деревню, когда уж имение устроено по его плану
и когда он живет там безвыездно.
Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом, под
непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой и лениво втягивает в себя
дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной, а
вдали желтеют поля, солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как
зеркало, пруд, с полей восходит пар, становится прохладно, наступают сумерки, крестьяне
толпами идут домой.
Праздная дворня сидит у ворот, там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка, девки
играют в горелки, кругом его самого резвятся его малютки, лезут к нему на колени,
вешаются ему на шею, за самоваром сидит… царица всего окружающего, его божество…
женщина! жена! А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали
приветные огоньки, накрывался большой круглый стол, Захар, произведенный в мажордомы,
с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет
хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку, садятся за
обильный ужин, тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его, Штольц, и другие,