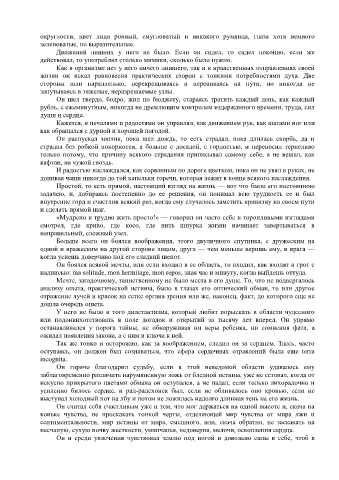Page 89 - Обломов
P. 89
округлости, цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца, глаза хотя немного
зеленоватые, но выразительные.
Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же
действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно.
Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей
жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две
стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не
запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы.
Он шел твердо, бодро, жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый
рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил
души и сердца.
Кажется, и печалями и радостями он управлял, как движением рук, как шагами ног или
как обращался с дурной и хорошей погодой.
Он распускал зонтик, пока шел дождь, то есть страдал, пока длилась скорбь, да и
страдал без робкой покорности, а больше с досадой, с гордостью, и переносил терпеливо
только потому, что причину всякого страдания приписывал самому себе, а не вешал, как
кафтан, на чужой гвоздь.
И радостью наслаждался, как сорванным по дороге цветком, пока он не увял в руках, не
допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежит в конце всякого наслаждения.
Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь — вот что было его постоянною
задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность ее и был
внутренне горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути
и сделать прямой шаг.
«Мудрено и трудно жить просто!» — говорил он часто себе и торопливыми взглядами
смотрел, где криво, где косо, где нить шнурка жизни начинает завертываться в
неправильный, сложный узел.
Больше всего он боялся воображения, этого двуличного спутника, с дружеским на
одной и вражеским на другой стороне лицом, друга — чем меньше веришь ему, и врага —
когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот.
Он боялся всякой мечты, или если входил в ее область, то входил, как входят в грот с
надписью: ma solitude, mon hermitage, mon repos, зная час и минуту, когда выйдешь оттуда.
Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе. То, что не подвергалось
анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман, то или другое
отражение лучей и красок на сетке органа зрения или же, наконец, факт, до которого еще не
дошла очередь опыта.
У него не было и того дилетантизма, который любит порыскать в области чудесного
или подонкихотствовать в поле догадок и открытий за тысячу лет вперед. Он упрямо
останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения фата, а
ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней.
Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем. Здесь, часто
оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных отравлений была еще terra
incognita.
Он горячо благодарил судьбу, если в этой неведомой области удавалось ему
заблаговременно различить нарумяненную ложь от бледной истины, уже не сетовал, когда от
искусно прикрытого цветами обмана он оступался, а не падал, если только лихорадочно и
усиленно билось сердце, и рад-радехонек был, если не обливалось оно кровью, если не
выступал холодный пот на лбу и потом не ложилась надолго длинная тень на его жизнь.
Он считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте и, скача на
коньке чувства, не проскакать тонкой черты, отделяющей мир чувства от мира лжи и
сентиментальности, мир истины от мира, смешного, или, скача обратно, не заскакать на
песчаную, сухую почву жесткости, умничанья, недоверия, мелочи, оскопления сердца.
Он и среди увлечения чувствовал землю под ногой и довольно силы в себе, чтоб в