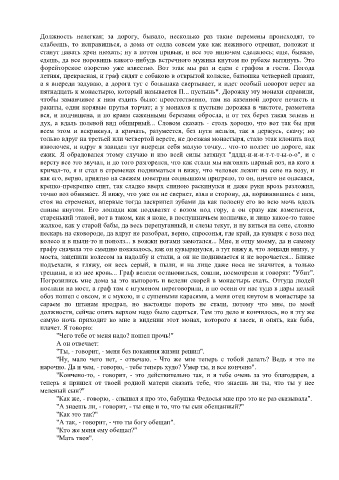Page 8 - Очарованный странник
P. 8
Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то
слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и
станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало,
едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это
форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода
летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит,
а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на
пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь*. Дорожку эту монахи справили,
чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и
ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена
вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и
дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать - столь хорошо, что вот так бы при
всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но
только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под
взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как
ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул "дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о", и с
версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я
кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и
как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаяся,
крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил,
точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним,
стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль
спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется,
старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое
жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно
пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под
колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому
графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у
моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается... Ближе
подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только
трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: "Убит".
Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей
послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый
обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за
сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей
должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же
самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба,
плачет. Я говорю:
"Чего тебе от меня надо? пошел прочь!"
А он отвечает:
"Ты, - говорит, - меня без покаяния жизни решил".
"Ну, мало чего нет, - отвечаю. - Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не
нарочно. Да и чем, - говорю, - тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено".
"Кончено-то, - говорит, - это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а
теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее
меленый сын?"
"Как же, - говорю, - слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала".
"А знаешь ли, - говорит, - ты еще и то, что ты сын обещанный?"
"Как это так?"
"А так, - говорит, - что ты богу обещан".
"Кто же меня ему обещал?"
"Мать твоя".