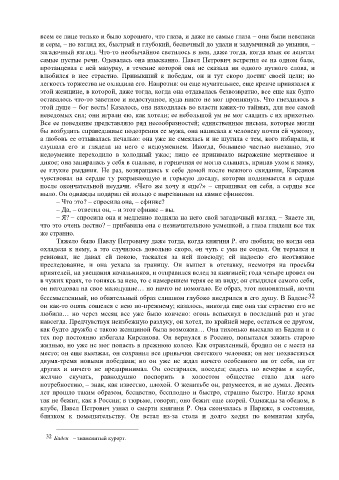Page 16 - Отцы и дети
P. 16
всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза – они были невелики
и серы, – но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, –
загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем, даже тогда, когда язык ее лепетал
самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале,
протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и
влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но
легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к
этой женщине, в которой, даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто
оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в
этой душе – бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой
неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью.
Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли
бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому,
а любовь ее отзывалась печалью: она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и
слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это
недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и
дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку,
ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов
чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце
после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» – спрашивал он себя, а сердце все
ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.
– Что это? – спросила она, – сфинкс?
– Да, – ответил он, – и этот сфинкс – вы.
– Я? – спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. – Знаете ли,
что это очень лестно? – прибавила она с незначительною усмешкой, а глаза глядели все так
же странно.
Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она
охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и
ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное
преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы
приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он
в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя,
он негодовал на свое малодушие… но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти
бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене 32
он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не
любила… но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас
навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом,
как будто дружба с такою женщиной была возможна… Она тихонько выехала из Бадена и с
тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою
жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на
место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться
двумя-тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от
других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе,
желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него
потребностию, – знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять
лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время
так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды за обедом, в
клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии,
близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба,
32 Баден – знаменитый курорт.