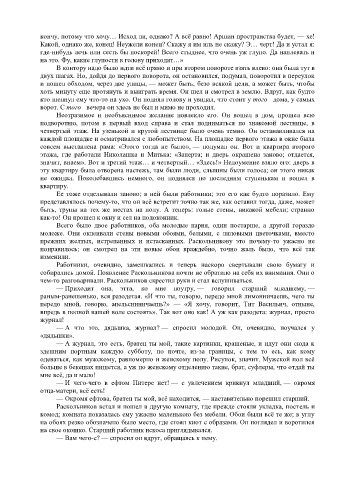Page 106 - Преступление и наказание
P. 106
кончу, потому что хочу… Исход ли, однако? А всё равно! Аршин пространства будет, — хе!
Какой, однако же, конец! Неужели конец? Скажу я им иль не скажу? Э… черт! Да и устал я:
где-нибудь лечь или сесть бы поскорей! Всего стыднее, что очень уж глупо. Да наплевать и
на это. Фу, какие глупости в голову приходят…»
В контору надо было идти всё прямо и при втором повороте взять влево: она была тут в
двух шагах. Но, дойдя до первого поворота, он остановился, подумал, поворотил в переулок
и пошел обходом, через две улицы, — может быть, безо всякой цели, а может быть, чтобы
хоть минуту еще протянуть и выиграть время. Он шел и смотрел в землю. Вдруг, как будто
кто шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидал, что стоит у того дома, у самых
ворот. С того вечера он здесь не был и мимо не проходил.
Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его. Он вошел в дом, прошел всю
подворотню, потом в первый вход справа и стал подниматься по знакомой лестнице, в
четвертый этаж. На узенькой и крутой лестнице было очень темно. Он останавливался на
каждой площадке и осматривался с любопытством. На площадке первого этажа в окне была
совсем выставлена рама: «Этого тогда не было», — подумал он. Вот и квартира второго
этажа, где работали Николашка и Митька: «Заперта; и дверь окрашена заново; отдается,
значит, внаем». Вот и третий этаж… и четвертый… «Здесь!» Недоумение взяло его: дверь в
эту квартиру была отворена настежь, там были люди, слышны были голоса; он этого никак
не ожидал. Поколебавшись немного, он поднялся по последним ступенькам и вошел в
квартиру.
Ее тоже отделывали заново; в ней были работники; это его как будто поразило. Ему
представлялось почему-то, что он всё встретит точно так же, как оставил тогда, даже, может
быть, трупы на тех же местах на полу. А теперь: голые стены, никакой мебели; странно
как-то! Он прошел к окну и сел на подоконник.
Всего было двое работников, оба молодые парня, один постарше, а другой гораздо
моложе. Они оклеивали стены новыми обоями, белыми, с лиловыми цветочками, вместо
прежних желтых, истрепанных и истасканных. Раскольникову это почему-то ужасно не
понравилось; он смотрел на эти новые обои враждебно, точно жаль было, что всё так
изменили.
Работники, очевидно, замешкались и теперь наскоро свертывали свою бумагу и
собирались домой. Появление Раскольникова почти не обратило на себя их внимания. Они о
чем-то разговаривали. Раскольников скрестил руки и стал вслушиваться.
— Приходит она, этта, ко мне поутру, — говорил старший младшему, —
раным-ранешенько, вся разодетая. «И что ты, говорю, передо мной лимонничаешь, чего ты
передо мной, говорю, апельсинничаешь?» — «Я хочу, говорит, Тит Васильич, отныне,
впредь в полной вашей воле состоять». Так вот оно как! А уж как разодета: журнал, просто
журнал!
— А что это, дядьшка, журнал? — спросил молодой. Он, очевидно, поучался у
«дядьшки».
— А журнал, это есть, братец ты мой, такие картинки, крашеные, и идут они сюда к
здешним портным каждую субботу, по почте, из-за границы, с тем то есь, как кому
одеваться, как мужскому, равномерно и женскому полу. Рисунок, значит. Мужской пол всё
больше в бекешах пишется, а уж по женскому отделению такие, брат, суфлеры, что отдай ты
мне всё, да и мало!
— И чего-чего в ефтом Питере нет! — с увлечением крикнул младший, — окромя
отца-матери, всё есть!
— Окромя ефтова, братец ты мой, всё находится, — наставительно порешил старший.
Раскольников встал и пошел в другую комнату, где прежде стояли укладка, постель и
комод; комната показалась ему ужасно маленькою без мебели. Обои были всё те же; в углу
на обоях резко обозначено было место, где стоял киот с образами. Он поглядел и воротился
на свое окошко. Старший работник искоса приглядывался.
— Вам чего-с? — спросил он вдруг, обращаясь к нему.