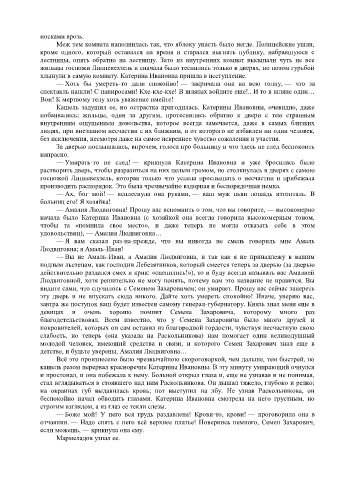Page 111 - Преступление и наказание
P. 111
носками врозь.
Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Полицейские ушли,
кроме одного, который оставался на время и старался выгнать публику, набравшуюся с
лестницы, опять обратно на лестницу. Зато из внутренних комнат высыпали чуть не все
жильцы госпожи Липпевехзель и сначала было теснились только в дверях, но потом гурьбой
хлынули в самую комнату. Катерина Ивановна пришла в исступление.
— Хоть бы умереть-то дали спокойно! — закричала она на всю толпу, — что за
спектакль нашли! С папиросами! Кхе-кхе-кхе! В шляпах войдите еще!.. И то в шляпе один…
Вон! К мертвому телу хоть уважение имейте!
Кашель задушил ее, но острастка пригодилась. Катерины Ивановны, очевидно, даже
побаивались; жильцы, один за другим, протеснились обратно к двери с тем странным
внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается, даже в самых близких
людях, при внезапном несчастии с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек,
без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия.
За дверью послышались, впрочем, голоса про больницу и что здесь не след беспокоить
напрасно.
— Умирать-то не след! — крикнула Катерина Ивановна и уже бросилась было
растворить дверь, чтобы разразиться на них целым громом, но столкнулась в дверях с самою
госпожой Липпевехзель, которая только что успела прослышать о несчастии и прибежала
производить распорядок. Это была чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка.
— Ах, бог мой! — всплеснула она руками, — ваш муж пьян лошадь изтопталь. В
больниц его! Я хозяйка!
— Амалия Людвиговна! Прошу вас вспомнить о том, что вы говорите, — высокомерно
начала было Катерина Ивановна (с хозяйкой она всегда говорила высокомерным тоном,
чтобы та «помнила свое место», и даже теперь не могла отказать себе в этом
удовольствии), — Амалия Людвиговна…
— Я вам сказал раз-на-прежде, что вы никогда не смель говориль мне Амаль
Людвиговна; я Амаль-Иван!
— Вы не Амаль-Иван, а Амалия Людвиговна, и так как я не принадлежу к вашим
подлым льстецам, как господин Лебезятников, который смеется теперь за дверью (за дверью
действительно раздался смех и крик: «сцепились!»), то и буду всегда называть вас Амалией
Людвиговной, хотя решительно не могу понять, почему вам это название не нравится. Вы
видите сами, что случилось с Семеном Захаровичем; он умирает. Прошу вас сейчас запереть
эту дверь и не впускать сюда никого. Дайте хоть умереть спокойно! Иначе, уверяю вас,
завтра же поступок ваш будет известен самому генерал-губернатору. Князь знал меня еще в
девицах и очень хорошо помнит Семена Захаровича, которому много раз
благодетельствовал. Всем известно, что у Семена Захаровича было много друзей и
покровителей, которых он сам оставил из благородной гордости, чувствуя несчастную свою
слабость, но теперь (она указала на Раскольникова) нам помогает один великодушный
молодой человек, имеющий средства и связи, и которого Семен Захарович знал еще в
детстве, и будьте уверены, Амалия Людвиговна…
Всё это произнесено было чрезвычайною скороговоркой, чем дальше, тем быстрей, но
кашель разом перервал красноречие Катерины Ивановны. В эту минуту умирающий очнулся
и простонал, и она побежала к нему. Больной открыл глаза и, еще не узнавая и не понимая,
стал вглядываться в стоявшего над ним Раскольникова. Он дышал тяжело, глубоко и редко;
на окраинах губ выдавилась кровь; пот выступил на лбу. Не узнав Раскольникова, он
беспокойно начал обводить глазами. Катерина Ивановна смотрела на него грустным, но
строгим взглядом, а из глаз ее текли слезы.
— Боже мой! У него вся грудь раздавлена! Крови-то, крови! — проговорила она в
отчаянии. — Надо снять с него всё верхнее платье! Повернись немного, Семен Захарович,
если можешь, — крикнула она ему.
Мармеладов узнал ее.