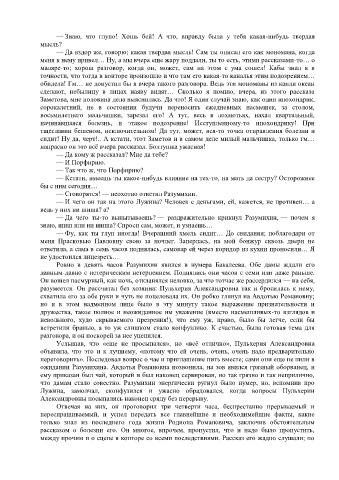Page 127 - Преступление и наказание
P. 127
— Знаю, что глупо! Хошь бей! А что, вправду была у тебя какая-нибудь твердая
мысль?
— Да вздор же, говорю; какая твердая мысль! Сам ты описал его как мономана, когда
меня к нему привел… Ну, а мы вчера еще жару поддали, ты то есть, этими рассказами-то… о
маляре-то; хорош разговор, когда он, может, сам на этом с ума сошел! Кабы знал я в
точности, что тогда в конторе произошло и что там его какая-то каналья этим подозрением…
обидела! Гм… не допустил бы я вчера такого разговора. Ведь эти мономаны из капли океан
сделают, небылицу в лицах наяву видят… Сколько я помню, вчера, из этого рассказа
Заметова, мне половина дела выяснилась. Да что! Я один случай знаю, как один ипохондрик,
сорокалетний, не в состоянии будучи переносить ежедневных насмешек, за столом,
восьмилетнего мальчишки, зарезал его! А тут, весь в лохмотьях, нахал квартальный,
начинавшаяся болезнь, и этакое подозрение! Исступленному-то ипохондрику! При
тщеславии бешеном, исключительном! Да тут, может, вся-то точка отправления болезни и
сидит! Ну да, черт!.. А кстати, этот Заметов и в самом деле милый мальчишка, только гм…
напрасно он это всё вчера рассказал. Болтушка ужасная!
— Да кому ж рассказал? Мне да тебе?
— И Порфирию.
— Так что ж, что Порфирию?
— Кстати, имеешь ты какое-нибудь влияние на тех-то, на мать да сестру? Осторожнее
бы с ним сегодня…
— Сговорятся! — неохотно ответил Разумихин.
— И чего он так на этого Лужина? Человек с деньгами, ей, кажется, не противен… а
ведь у них ни шиша? а?
— Да чего ты-то выпытываешь? — раздражительно крикнул Разумихин, — почем я
знаю, шиш или ни шиша? Спроси сам, может, и узнаешь…
— Фу, как ты глуп иногда! Вчерашний хмель сидит… До свидания; поблагодари от
меня Прасковью Павловну свою за ночлег. Заперлась, на мой бонжур сквозь двери не
ответила, а сама в семь часов поднялась, самовар ей через коридор из кухни проносили… Я
не удостоился лицезреть…
Ровно в девять часов Разумихин явился в нумера Бакалеева. Обе дамы ждали его
давным-давно с истерическим нетерпением. Поднялись они часов с семи или даже раньше.
Он вошел пасмурный, как ночь, откланялся неловко, за что тотчас же рассердился — на себя,
разумеется. Он рассчитал без хозяина: Пульхерия Александровна так и бросилась к нему,
схватила его за обе руки и чуть не поцеловала их. Он робко глянул на Авдотью Романовну;
но и в этом надменном лице было в эту минуту такое выражение признательности и
дружества, такое полное и неожиданное им уважение (вместо насмешливых-то взглядов и
невольного, худо скрываемого презрения!), что ему уж, право, было бы легче, если бы
встретили бранью, а то уж слишком стало конфузливо. К счастью, была готовая тема для
разговора, и он поскорей за нее уцепился.
Услышав, что «еще не просыпался», но «всё отлично», Пульхерия Александровна
объявила, что это и к лучшему, «потому что ей очень, очень, очень надо предварительно
переговорить». Последовал вопрос о чае и приглашение пить вместе; сами они еще не пили в
ожидании Разумихина. Авдотья Романовна позвонила, на зов явился грязный оборванец, и
ему приказан был чай, который и был наконец сервирован, но так грязно и так неприлично,
что дамам стало совестно. Разумихин энергически ругнул было нумер, но, вспомнив про
Лужина, замолчал, сконфузился и ужасно обрадовался, когда вопросы Пульхерии
Александровны посыпались наконец сряду без перерыву.
Отвечая на них, он проговорил три четверти часа, беспрестанно прерываемый и
переспрашиваемый, и успел передать все главнейшие и необходимейшие факты, какие
только знал из последнего года жизни Родиона Романовича, заключив обстоятельным
рассказом о болезни его. Он многое, впрочем, пропустил, что и надо было пропустить,
между прочим и о сцене в конторе со всеми последствиями. Рассказ его жадно слушали; но