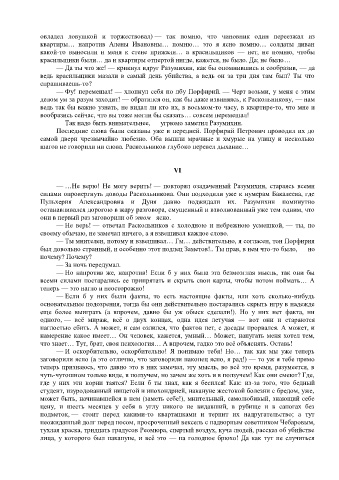Page 157 - Преступление и наказание
P. 157
овладел ловушкой и торжествовал) — так помню, что чиновник один переезжал из
квартиры… напротив Алены Ивановны… помню… это я ясно помню… солдаты диван
какой-то выносили и меня к стене прижали… а красильщиков — нет, не помню, чтобы
красильщики были… да и квартиры отпертой нигде, кажется, не было. Да; не было…
— Да ты что же! — крикнул вдруг Разумихин, как бы опомнившись и сообразив, — да
ведь красильщики мазали в самый день убийства, а ведь он за три дня там был? Ты что
спрашиваешь-то?
— Фу! перемешал! — хлопнул себя по лбу Порфирий. — Черт возьми, у меня с этим
делом ум за разум заходит! — обратился он, как бы даже извиняясь, к Раскольникову, — нам
ведь так бы важно узнать, не видал ли кто их, в восьмом-то часу, в квартире-то, что мне и
вообразись сейчас, что вы тоже могли бы сказать… совсем перемешал!
— Так надо быть внимательнее, — угрюмо заметил Разумихин.
Последние слова были сказаны уже в передней. Порфирий Петрович проводил их до
самой двери чрезвычайно любезно. Оба вышли мрачные и хмурые на улицу и несколько
шагов не говорили ни слова. Раскольников глубоко перевел дыхание…
VI
— …Не верю! Не могу верить! — повторял озадаченный Разумихин, стараясь всеми
силами опровергнуть доводы Раскольникова. Они подходили уже к нумерам Бакалеева, где
Пульхерия Александровна и Дуня давно поджидали их. Разумихин поминутно
останавливался дорогою в жару разговора, смущенный и взволнованный уже тем одним, что
они в первый раз заговорили об этом ясно.
— Не верь! — отвечал Раскольников с холодною и небрежною усмешкой, — ты, по
своему обычаю, не замечал ничего, а я взвешивал каждое слово.
— Ты мнителен, потому и взвешивал… Гм… действительно, я согласен, тон Порфирия
был довольно странный, и особенно этот подлец Заметов!.. Ты прав, в нем что-то было, — но
почему? Почему?
— За ночь передумал.
— Но напротив же, напротив! Если б у них была эта безмозглая мысль, так они бы
всеми силами постарались ее припрятать и скрыть свои карты, чтобы потом поймать… А
теперь — это нагло и неосторожно!
— Если б у них были факты, то есть настоящие факты, или хоть сколько-нибудь
основательные подозрения, тогда бы они действительно постарались скрыть игру в надежде
еще более выиграть (а впрочем, давно бы уж обыск сделали!). Но у них нет факта, ни
одного, — всё мираж, всё о двух концах, одна идея летучая — вот они и стараются
наглостью сбить. А может, и сам озлился, что фактов нет, с досады прорвался. А может, и
намерение какое имеет… Он человек, кажется, умный… Может, напугать меня хотел тем,
что знает… Тут, брат, своя психология… А впрочем, гадко это всё объяснять. Оставь!
— И оскорбительно, оскорбительно! Я понимаю тебя! Но… так как мы уже теперь
заговорили ясно (а это отлично, что заговорили наконец ясно, я рад!) — то уж я тебе прямо
теперь признаюсь, что давно это в них замечал, эту мысль, во всё это время, разумеется, в
чуть-чутошном только виде, в ползучем, но зачем же хоть и в ползучем! Как они смеют? Где,
где у них эти корни таятся? Если б ты знал, как я бесился! Как: из-за того, что бедный
студент, изуродованный нищетой и ипохондрией, накануне жестокой болезни с бредом, уже,
может быть, начинавшейся в нем (заметь себе!), мнительный, самолюбивый, знающий себе
цену, и шесть месяцев у себя в углу никого не видавший, в рубище и в сапогах без
подметок, — стоит перед какими-то кварташками и терпит их надругательство; а тут
неожиданный долг перед носом, просроченный вексель с надворным советником Чебаровым,
тухлая краска, тридцать градусов Реомюра, спертый воздух, куча людей, рассказ об убийстве
лица, у которого был накануне, и всё это — на голодное брюхо! Да как тут не случиться