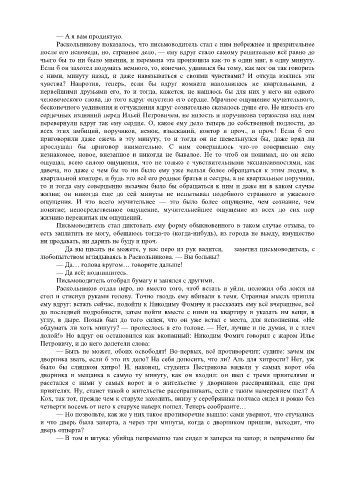Page 69 - Преступление и наказание
P. 69
— А я вам продиктую.
Раскольникову показалось, что письмоводитель стал с ним небрежнее и презрительнее
после его исповеди, но, странное дело, — ему вдруг стало самому решительно всё равно до
чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту.
Если б он захотел подумать немного, то, конечно, удивился бы тому, как мог он так говорить
с ними, минуту назад, и даже навязываться с своими чувствами? И откуда взялись эти
чувства? Напротив, теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а
первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного
человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного,
бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказалось душе его. Не низость его
сердечных излияний перед Ильей Петровичем, не низость и поручикова торжества над ним
перевернули вдруг так ему сердце. О, какое ему дело теперь до собственной подлости, до
всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, контор и проч., и проч.! Если б его
приговорили даже сжечь в эту минуту, то и тогда он не шевельнулся бы, даже вряд ли
прослушал бы приговор внимательно. С ним совершалось что-то совершенно ему
незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтоб он понимал, но он ясно
ощущал, всею силою ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как
давеча, но даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям, в
квартальной конторе, и будь это всё его родные братья и сестры, а не квартальные поручики,
то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже ни в каком случае
жизни; он никогда еще до сей минуты не испытывал подобного странного и ужасного
ощущения. И что всего мучительнее — это было более ощущение, чем сознание, чем
понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор
жизнию пережитых им ощущений.
Письмоводитель стал диктовать ему форму обыкновенного в таком случае отзыва, то
есть заплатить не могу, обещаюсь тогда-то (когда-нибудь), из города не выеду, имущество
ни продавать, ни дарить не буду и проч.
— Да вы писать не можете, у вас перо из рук валится, — заметил письмоводитель, с
любопытством вглядываясь в Раскольникова. — Вы больны?
— Да… голова кругом… говорите дальше!
— Да всё; подпишитесь.
Письмоводитель отобрал бумагу и занялся с другими.
Раскольников отдал перо, но вместо того, чтоб встать и уйти, положил оба локтя на
стол и стиснул руками голову. Точно гвоздь ему вбивали в темя. Странная мысль пришла
ему вдруг: встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему всё вчерашнее, всё
до последней подробности, затем пойти вместе с ними на квартиру и указать им вещи, в
углу, в дыре. Позыв был до того силен, что он уже встал с места, для исполнения. «Не
обдумать ли хоть минуту? — пронеслось в его голове. — Нет, лучше и не думая, и с плеч
долой!» Но вдруг он остановился как вкопанный: Никодим Фомич говорил с жаром Илье
Петровичу, и до него долетели слова:
— Быть не может, обоих освободят! Во-первых, всё противоречит; судите: зачем им
дворника звать, если б это их дело? На себя доносить, что ли? Аль для хитрости? Нет, уж
было бы слишком хитро! И, наконец, студента Пестрякова видели у самых ворот оба
дворника и мещанка в самую ту минуту, как он входил: он шел с тремя приятелями и
расстался с ними у самых ворот и о жительстве у дворников расспрашивал, еще при
приятелях. Ну, станет такой о жительстве расспрашивать, если с таким намерением шел? А
Кох, так тот, прежде чем к старухе заходить, внизу у серебряника полчаса сидел и ровно без
четверти восемь от него к старухе наверх пошел. Теперь сообразите…
— Но позвольте, как же у них такое противоречие вышло: сами уверяют, что стучались
и что дверь была заперта, а через три минуты, когда с дворником пришли, выходит, что
дверь отперта?
— В том и штука: убийца непременно там сидел и заперся на запор; и непременно бы