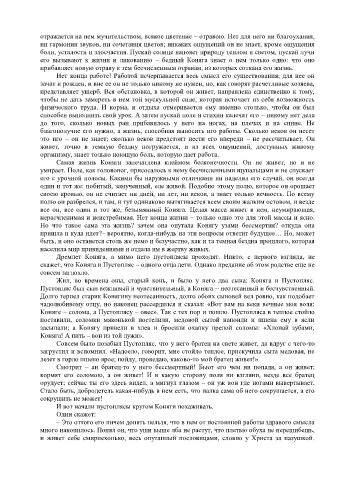Page 147 - СКАЗКИ
P. 147
отражается на нем мучительством, всякое цветение – отравою. Нет для него ни благоухания,
ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения
боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи
его вызывают к жизни и ликованию – бедный Коняга знает о нем только одно: что оно
прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.
Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он
зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева,
представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому,
чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность
физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был
способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его – никому нет дела
до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не
благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет
это иго – он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди – не рассчитывает. Он
живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому
организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.
Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не
умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает
его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда
один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает
своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему
полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде
все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая,
нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни – только одно это для этой массы и ясно.
Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она
пришла и куда идет?– вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее… Но, может
быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая
населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.
Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не
скажет, что Коняга и Пустопляс – одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не
совсем заглохло.
Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс.
Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга – неотесанный и бесчувственный.
Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает
чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля:
Коняге – солома, а Пустоплясу – овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло
поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли
засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: «Хлопай зубами,
Коняга! А пить – вон из той лужи».
Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то
загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не
лезет в горло пшено ярое; пойду, проведаю, каково-то мой братец живет!»
Смотрит – ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попадя, а он живет;
кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец
орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом – он уж вон где ногами вывертывает.
Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его
сокрушить не может!
И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.
Один скажет:
– Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла
много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь,
и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой.