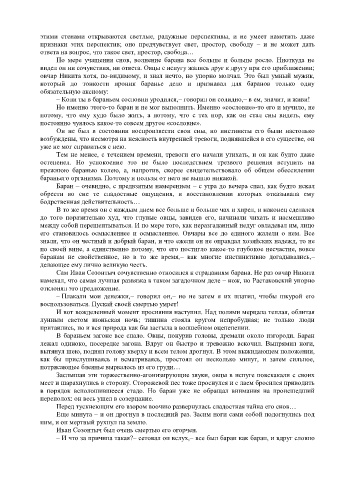Page 144 - СКАЗКИ
P. 144
этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже
признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу – и не может дать
ответа на вопрос, что такое свет, простор, свобода…
По мере учащения снов, волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не
видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении;
овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик,
который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну
обязательную аксиому:
– Коли ты в бараньем сословии уродился,– говорил он солидно,– в ем, значит, и живи!
Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не
потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему
постоянно чуялось какое-то совсем другое «сословие».
Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько
возбуждены, что несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он
уже не мог справиться с нею.
Тем не менее, с течением времени, тревоги его начали утихать, и он как будто даже
остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на
прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении
бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.
Баран – очевидно, с предвзятым намерением – с утра до вечера спал, как будто искал
обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему
бодрственная действительность…
В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел, и наконец сделался
до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо
между собой перешептываться. И по мере того, как неразгаданный недуг овладевал им, лицо
его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нем. Все
знали, что он честный и добрый баран, и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не
по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастие, вовсе
баранам не свойственное, но в то же время,– как многие инстинктивно догадывались,–
делающее ему лично великую честь.
Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита
намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле – нож, но Растаковский упорно
отклонял это предложение.
– Плакали мои денежки,– говорил он,– но не затем я их платил, чтобы шкурой его
воспользоваться. Пускай своей смертью умрет!
И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая
лунным светом июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди
притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.
В бараньем загоне все спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран
лежал одиноко, посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги,
вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении,
как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное,
потрясающее блеянье вырвалось из его груди…
Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих
мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже проснулся и с лаем бросился приводить
в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший
переполох: он весь ушел в созерцание.
Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов…
Еще минута – и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под
ним, и он мертвый рухнул на землю.
Иван Созонтыч был очень смертью его огорчен.
– И что за причина такая?– сетовал он вслух,– все был баран как баран, и вдруг словно