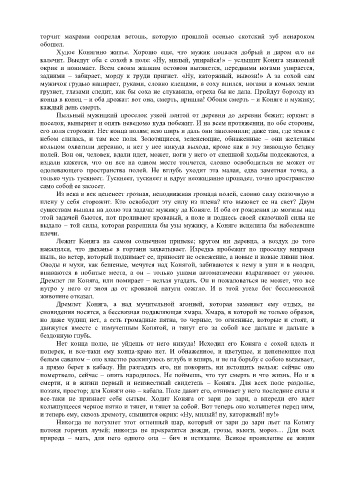Page 146 - СКАЗКИ
P. 146
торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком
обошел.
Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не
калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся!» – услышит Коняга знакомый
окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается,
задними – забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам
мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли
грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из
конца в конец – и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть – и Коняге и мужику;
каждый день смерть.
Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в
поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны,
его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с
небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные – они железным
кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну
полей. Вон он, человек, вдали идет, может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а
издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от
одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а
только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство
само собой ее засосет.
Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в
плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум
существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над
этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не
выдало – той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие
плечи.
Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того
накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами
пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя.
Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри,
впиваются в побитые места, а он – только ушами автоматически вздрагивает от уколов.
Дремлет ли Коняга, или помирает – нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все
нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной
животине отказал.
Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не
сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов,
но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и
движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в
бездонную глубь.
Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и
поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под
белым саваном – оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает,
а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно
помертвело, сейчас – опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в
смерти, и в жизни первый и неизвестный свидетель – Коняга. Для всех поле раздолье,
поэзия, простор; для Коняги оно – кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и
все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет
колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним,
и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»
Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу
потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз… Для всех
природа – мать, для него одного она – бич и истязание. Всякое проявление ее жизни