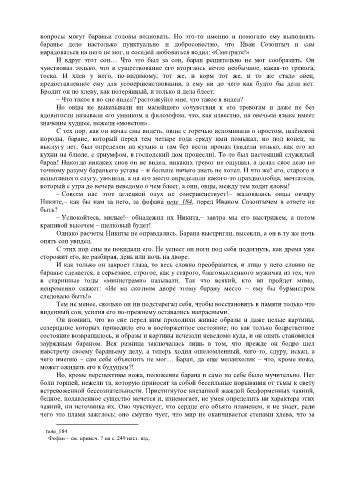Page 143 - СКАЗКИ
P. 143
вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять
баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам
нарадоваться на него не мог, и соседей любоваться водил: «Смотрите!»
И вдруг этот сон… Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он
чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога,
тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец,
предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет.
Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дела блеет:
– Что такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?
Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без
ядовитости называли его умником и филозофом, что, как известно, на овечьем языке имеет
значение худшее, нежели «моветон».
С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлёнской
породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за
выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из
кухни на блюде, с триумфом, в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый
баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по
точному разуму бараньего устава – и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и
испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднолюбца, мечтателя,
который с утра до вечера неведомо о чем блеет, а они, овцы, между тем ходят яловы!
– Совсем нас этот аглецкой олух не совершенствует!– жаловались овцы овчару
Никите,– как бы нам за него, за фофана note_184, перед Иваном Созонтычем в ответе не
быть?
– Успокойтесь, милые!– обнадежил их Никита,– завтра мы его выстрижем, а потом
крапивой высечем – шелковый будет!
Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь
опять сон увидел.
С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема уже
сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.
И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не
баранье сделается, а серьезное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что
в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо,
непременно скажет: «Не на скотном дворе этому барану место – ему бы бурмистром
следовало быть!»
Тем не менее, сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что
виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.
Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины,
созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное
состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился
заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел
навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то, сдуру, искал, а
чего именно – сам себе объяснить не мог… Баран, да еще меланхолик – что, кроме ножа,
может ожидать его в будущем?!
Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет
боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету
встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний,
бедное, подавленное существо мечется и, изнемогает, не умея определить ни характера этих
чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради
чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за
note_184
Фофан – см. примеч. 7 на с. 249 наст. изд.