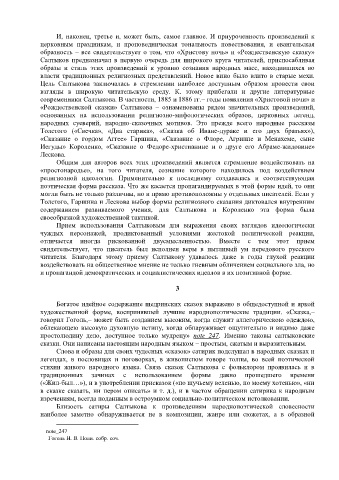Page 214 - СКАЗКИ
P. 214
И, наконец, третье и, может быть, самое главное. И приуроченность произведений к
церковным праздникам, и проповедническая тональность повествования, и евангельская
образность – все свидетельствует о том, что «Христову ночь» и «Рождественскую сказку»
Салтыков предназначал в первую очередь для широкого круга читателей, приспосабливая
образы и стиль этих произведений к уровню сознания народных масс, находившихся во
власти традиционных религиозных представлений. Новое вино было влито в старые мехи.
Цель Салтыкова заключалась в стремлении наиболее доступным образом провести свои
взгляды в широкую читательскую среду. К. этому прибегали и другие литературные
современники Салтыкова. В частности, 1885 и 1886 гг.– годы появления «Христовой ночи» и
«Рождественской сказки» Салтыкова – ознаменованы рядом значительных произведений,
основанных на использовании религиозно-мифологических образов, церковных легенд,
народных суеверий, народно-сказочных мотивов. Это прежде всего народные рассказы
Толстого («Свечка», «Два старика», «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях»),
«Сказание о гордом Аггее» Гаршина, «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне
Иегуды» Короленко, «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине»
Лескова.
Общим для авторов всех этих произведений является стремление воздействовать на
«простонародье», на того читателя, сознание которого находилось под воздействием
религиозной идеологии. Применительно к последнему создавалась и соответствующая
поэтическая форма рассказа. Что же касается пропагандируемых в этой форме идей, то они
могли быть не только различны, но и прямо противоположны у отдельных писателей. Если у
Толстого, Гаршина и Лескова выбор формы религиозного сказания диктовался внутренним
содержанием развиваемого учения, для Салтыкова и Короленко эта форма была
своеобразной художественной тактикой.
Прием использования Салтыковым для выражения своих взглядов идеологически
чуждых персонажей, продиктованный условиями жестокой политической реакции,
отличается иногда рискованной двусмысленностью. Вместе с тем этот прием
свидетельствует, что писатель был исполнен веры в пытливый ум передового русского
читателя. Благодаря этому приему Салтыкову удавалось даже в годы глухой реакции
воздействовать на общественное мнение не только гневным обличением социального зла, но
и пропагандой демократических и социалистических идеалов в их позитивной форме.
3
Богатое идейное содержание щедринских сказок выражено в общедоступной и яркой
художественной форме, воспринявшей лучшие народнопоэтические традиции. «Сказка,–
говорил Гоголь,– может быть созданием высоким, когда служит аллегорическою одеждою,
облекающею высокую духовную истину, когда обнаруживает ощутительно и видимо даже
простолюдину дело, доступное только мудрецу» note_247. Именно таковы салтыковские
сказки. Они написаны настоящим народным языком – простым, сжатым и выразительным.
Слова и образы для своих чудесных «сказок» сатирик подслушал в народных сказках и
легендах, в пословицах и поговорках, в живописном говоре толпы, во всей поэтической
стихии живого народного языка. Связь сказок Салтыкова с фольклором проявилась и в
традиционных зачинах с использованием формы давно прошедшего времени
(«Жил-был…»), и в употреблении присказок («по щучьему веленью, по моему хотенью», «ни
в сказке сказать, ни пером описать» и т. д.), и в частом обращении сатирика к народным
изречениям, всегда поданным в остроумном социально-политическом истолковании.
Близость сатиры Салтыкова к произведениям народнопоэтической словесности
наиболее заметно обнаруживается не в композиции, жанре или сюжетах, а в образной
note_247
Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.