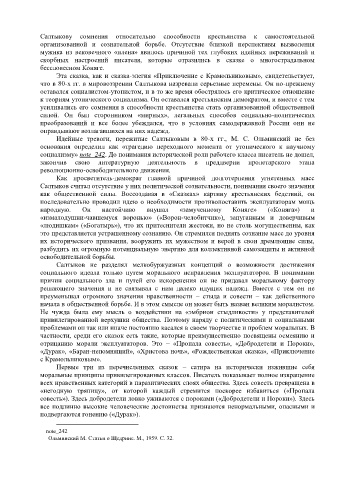Page 210 - СКАЗКИ
P. 210
Салтыкову сомнения относительно способности крестьянства к самостоятельной
организованной и сознательной борьбе. Отсутствие близкой перспективы вызволения
мужика из вековечного «плена» явилось причиной тех глубоких идейных переживаний и
скорбных настроений писателя, которые отразились в сказке о многострадальном
бессловесном Коняге.
Эта сказка, как и сказка-элегия «Приключение с Крамольниковым», свидетельствует,
что в 80-х гг. в мировоззрении Салтыкова назревали серьезные перемены. Он по-прежнему
оставался социалистом-утопистом, и в то же время обострялось его критическое отношение
к теориям утопического социализма. Он оставался крестьянским демократом, и вместе с тем
усиливались его сомнения в способности крестьянства стать организованной общественной
силой. Он был сторонником «мирных», легальных способов социально-политических
преобразований и все более убеждался, что в условиях самодержавной России они не
оправдывают возлагавшихся на них надежд.
Идейные тревоги, пережитые Салтыковым в 80-х гг., М. С. Ольминский не без
основания определил как «трагедию переходного момента от утопического к научному
социализму» note_242. До понимания исторической роли рабочего класса писатель не дошел,
закончив свою литературную деятельность в преддверии пролетарского этапа
революционно-освободительного движения.
Как просветитель-демократ главной причиной долготерпения угнетенных масс
Салтыков считал отсутствие у них политической сознательности, понимания своего значения
как общественной силы. Воссоздавая в «Сказках» картину крестьянских бедствий, он
последовательно проводил идею о необходимости противопоставить эксплуататорам мощь
народную. Он настойчиво внушал «замученному Коняге» («Коняга») и
«измалодушни-чавшемуся воронью» («Ворон-челобитчик»), запуганным и доверчивым
«людишкам» («Богатырь»), что их притеснители жестоки, но не столь могущественны, как
это представляется устрашенному сознанию. Он стремился поднять сознание масс до уровня
их исторического призвания, вооружить их мужеством и верой в свои дремлющие силы,
разбудить их огромную потенциальную энергию для коллективной самозащиты и активной
освободительной борьбы.
Салтыков не разделял мелкобуржуазных концепций о возможности достижения
социального идеала только путем морального исправления эксплуататоров. В понимании
причин социального зла и путей его искоренения он не придавал моральному фактору
решающего значения и не связывал с ним далеко идущих надежд. Вместе с тем он не
преуменьшал огромного значения нравственности – стыда и совести – как действенного
начала в общественной борьбе. И в этом смысле он может быть назван великим моралистом.
Не чужда была ему мысль о воздействии на «эмбрион стыдливости» у представителей
привилегированной верхушки общества. Поэтому наряду с политическими и социальными
проблемами он так или иначе постоянно касался в своем творчестве и проблем моральных. В
частности, среди его сказок есть такие, которые преимущественно посвящены осмеянию и
отрицанию морали эксплуататоров. Это – «Пропала совесть», «Добродетели и Пороки»,
«Дурак», «Баран-непомнящий», «Христова ночь», «Рождественская сказка», «Приключение
с Крамольниковым».
Первые три из перечисленных сказок – сатира на исторически изжившие себя
моральные принципы привилегированных классов. Писатель показывает полное извращение
всех нравственных категорий в паразитических слоях общества. Здесь совесть превращена в
«негодную тряпицу», от которой каждый стремится поскорее избавиться («Пропала
совесть»). Здесь добродетели ловко уживаются с пороками («Добродетели и Пороки»). Здесь
все подлинно высокие человеческие достоинства признаются ненормальными, опасными и
подвергаются гонению («Дурак»).
note_242
Ольминский М. Статьи о Щедрине. М., 1959. С. 32.