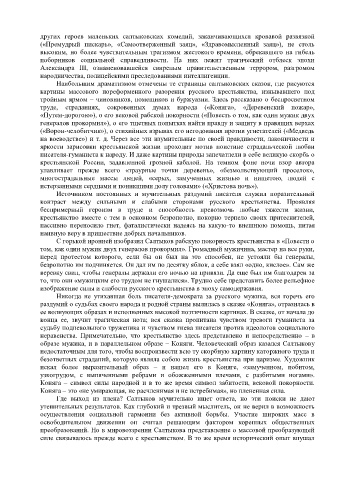Page 209 - СКАЗКИ
P. 209
других героев маленьких салтыковских комедий, заканчивающихся кровавой развязкой
(«Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Здравомысленный заяц»), не столь
высоким, но более чувствительным трагизмом жестокого времени, обрекавшего на гибель
поборников социальной справедливости. На них лежит трагический отблеск эпохи
Александра III, ознаменовавшейся свирепым правительственным террором, разгромом
народничества, полицейскими преследованиями интеллигенции.
Наибольшим драматизмом отмечены те страницы салтыковских сказок, где рисуются
картины массового пореформенного разорения русского крестьянства, изнывавшего под
тройным ярмом – чиновников, помещиков и буржуазии. Здесь рассказано о беспросветном
труде, страданиях, сокровенных думах народа («Коняга», «Деревенский пожар»,
«Путем-дорогою»), о его вековой рабской покорности («Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил»), о его тщетных попытках найти правду и защиту в правящих верхах
(«Ворон-челобитчик»), о стихийных взрывах его негодования против угнетателей («Медведь
на воеводстве») и т. д. Через все эти изумительные по своей правдивости, лаконичности и
яркости зарисовки крестьянской жизни проходит мотив поистине страдальческой любви
писателя-гуманиста к народу. И даже картины природы запечатлели в себе великую скорбь о
крестьянской России, задавленной грозной кабалой. На темном фоне ночи взор автора
улавливает прежде всего «траурные точки деревень», «безмолвствующий проселок»,
многострадальные массы людей, «серых, замученных жизнью и нищетою, людей с
истерзанными сердцами и поникшими долу головами» («Христова ночь»).
Источником постоянных и мучительных раздумий писателя служил поразительный
контраст между сильными и слабыми сторонами русского крестьянства. Проявляя
беспримерный героизм в труде и способность превозмочь любые тяжести жизни,
крестьянство вместе с тем в основном безропотно, покорно терпело своих притеснителей,
пассивно переносило гнет, фаталистически надеясь на какую-то внешнюю помощь, питая
наивную веру в пришествие добрых начальников.
С горькой иронией изобразил Салтыков рабскую покорность крестьянства в «Повести о
том, как один мужик двух генералов прокормил». Громадный мужичина, мастер на все руки,
перед протестом которого, если бы он был на это способен, не устояли бы генералы,
безропотно им подчиняется. Он дал им по десятку яблок, а себе взял «одно, кислое». Сам же
веревку свил, чтобы генералы держали его ночью на привязи. Да еще был им благодарен за
то, что они «мужицким его трудом не гнушалися». Трудно себе представить более рельефное
изображение силы и слабости русского крестьянства в эпоху самодержавия.
Никогда не утихавшая боль писателя-демократа за русского мужика, вся горечь его
раздумий о судьбах своего народа и родной страны вылилась в сказке «Коняга», отразилась в
ее волнующих образах и исполненных высокой поэтичности картинах. В сказке, от начала до
конца ее, звучит трагическая нота; вся сказка пропитана чувством тревоги гуманиста за
судьбу подневольного труженика и чувством гнева писателя против идеологов социального
неравенства. Примечательно, что крестьянство здесь представлено и непосредственно – в
образе мужика, и в параллельном образе – Коняги. Человеческий образ казался Салтыкову
недостаточным для того, чтобы воспроизвести всю ту скорбную картину каторжного труда и
безответных страданий, которую являла собою жизнь крестьянства при царизме. Художник
искал более выразительный образ – и нашел его в Коняге, «замученном, побитом,
узкогрудом, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами».
Коняга – символ силы народной и в то же время символ забитости, вековой покорности.
Коняга – это «не умирающая, не расчленимая и не истребимая», но плененная сила.
Где выход из плена? Салтыков мучительно ищет ответа, но эти поиски не дают
утешительных результатов. Как глубокий и трезвый мыслитель, он не верил в возможность
осуществления социальной гармонии без активной борьбы. Участие широких масс в
освободительном движении он считал решающим фактором коренных общественных
преобразований. Но в мировоззрении Салтыкова представление о массовой преобразующей
силе связывалось прежде всего с крестьянством. В то же время исторический опыт внушал