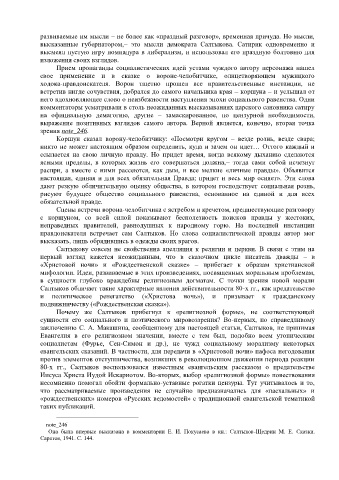Page 213 - СКАЗКИ
P. 213
развиваемые им мысли – не более как «праздный разговор», временная причуда. Но мысли,
высказанные губернатором,– это мысли демократа Салтыкова. Сатирик одновременно и
высмеял пустую игру помпадура в либерализм, и использовал его праздную болтовню для
изложения своих взглядов.
Прием пропаганды социалистических идей устами чуждого автору персонажа нашел
свое применение и в сказке о вороне-челобитчике, олицетворяющем мужицкого
ходока-правдоискателя. Ворон тщетно прошел все правительственные инстанции, не
встретив нигде сочувствия, добрался до самого начальника края – коршуна – и услышал от
него вдохновляющее слово о неизбежности наступления эпохи социального равенства. Одни
комментаторы усматривали в столь неожиданных высказываниях царского сановника сатиру
на официальную демагогию, другие – замаскированное, по цензурной необходимости,
выражение позитивных взглядов самого автора. Верной является, конечно, вторая точка
зрения note_246.
Коршун сказал ворону-челобитчику: «Посмотри кругом – везде рознь, везде свара;
никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет… Оттого каждый и
ссылается на свою личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются
ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна,– тогда сами собой исчезнут
распри, а вместе с ними рассеются, как дым, и все мелкие «личные правды». Объявится
настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет». Эти слова
дают резкую обличительную оценку общества, в котором господствует социальная рознь,
рисуют будущее общество социального равенства, основанное на единой и для всех
обязательной правде.
Сцены встречи ворона-челобитчика с ястребом и кречетом, предшествующие разговору
с коршуном, со всей силой показывают бесполезность поисков правды у жестоких,
неправедных правителей, равнодушных к народному горю. На последней инстанции
правдоискателя встречает сам Салтыков. Но слова социалистической правды автор мог
высказать, лишь обрядившись в одежды своих врагов.
Салтыкову совсем не свойственна апелляция к религии и церкви. В связи с этим на
первый взгляд кажется неожиданным, что в сказочном цикле писатель дважды – в
«Христовой ночи» и «Рождественской сказке» – прибегает к образам христианской
мифологии. Идеи, развиваемые в этих произведениях, посвященных моральным проблемам,
в сущности глубоко враждебны религиозным догматам. С точки зрения новой морали
Салтыков обличает такие характерные явления действительности 80-х гг., как предательство
и политическое ренегатство («Христова ночь»), и призывает к гражданскому
подвижничеству («Рождественская сказка»).
Почему же Салтыков прибегнул к «религиозной форме», не соответствующей
сущности его социального и поэтического мировоззрения? Во-первых, по справедливому
заключению С. А. Макашина, сообщенному для настоящей статьи, Салтыков, не принимая
Евангелия в его религиозном значении, вместе с тем был, подобно всем утопическим
социалистам (Фурье, Сен-Симон и др.), не чужд социальному морализму некоторых
евангельских сказаний. В частности, для передачи в «Христовой ночи» пафоса негодования
против элементов отступничества, возникших в революционном движении периода реакции
80-х гг., Салтыков воспользовался известным евангельским рассказом о предательстве
Иисуса Христа Иудой Искариотом. Во-вторых, выбор «религиозной формы» повествования
несомненно помогал обойти формально-уставные рогатки цензуры. Тут учитывалось и то,
что рассматриваемые произведения не случайно предназначались для «пасхальных» и
«рождественских» номеров «Русских ведомостей» с традиционной евангельской тематикой
таких публикаций.
note_246
Она была впервые высказана в комментарии Е. И. Покусаева в кн.: Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки.
Саратов, 1941. С. 144.