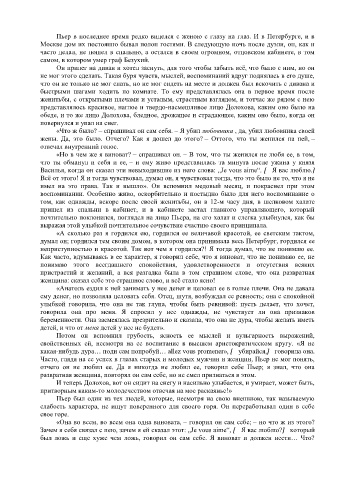Page 16 - Война и мир 2 том
P. 16
Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в
Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли, он, как и
часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном, отцовском кабинете, в том
самом, в котором умер граф Безухий.
Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть всё, что было с ним, но он
не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе,
что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и
быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после
женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею
представлялось красивое, наглое и твердо-насмешливое лицо Долохова, каким оно было на
обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он
повернулся и упал на снег.
«Что ж было? – спрашивал он сам себя. – Я убил любовника , да, убил любовника своей
жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? – Оттого, что ты женился на ней, –
отвечал внутренний голос.
«Но в чем же я виноват? – спрашивал он. – В том, что ты женился не любя ее, в том,
что ты обманул и себя и ее, – и ему живо представилась та минута после ужина у князя
Василья, когда он сказал эти невыходившие из него слова: „Je vous aime“. [ Я вас люблю.]
Всё от этого! Я и тогда чувствовал, думал он, я чувствовал тогда, что это было не то, что я не
имел на это права. Так и вышло». Он вспомнил медовый месяц, и покраснел при этом
воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о
том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12-м часу дня, в шелковом халате
пришел из спальни в кабинет, и в кабинете застал главного управляющего, который
почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы
выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастию своего принципала.
«А сколько раз я гордился ею, гордился ее величавой красотой, ее светским тактом,
думал он; гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее
неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее.
Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не
понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких
пристрастий и желаний, а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная
женщина: сказал себе это страшное слово, и всё стало ясно!
«Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала
ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной
улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой: пусть делает, что хочет,
говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков
беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что она не дура, чтобы желать иметь
детей, и что от меня детей у нее не будет».
Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений,
свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не
какая-нибудь дура… поди сам попробуй… allez vous promener», [ убирайся,] говорила она.
Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять,
отчего он не любил ее. Да я никогда не любил ее, говорил себе Пьер; я знал, что она
развратная женщина, повторял он сам себе, но не смел признаться в этом.
И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть,
притворным каким-то молодечеством отвечая на мое раскаянье!»
Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую
слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он переработывал один в себе
свое горе.
«Она во всем, во всем она одна виновата, – говорил он сам себе; – но что ж из этого?
Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал этот: „Je vous aime“, [ Я вас люблю?] который
был ложь и еще хуже чем ложь, говорил он сам себе. Я виноват и должен нести… Что?