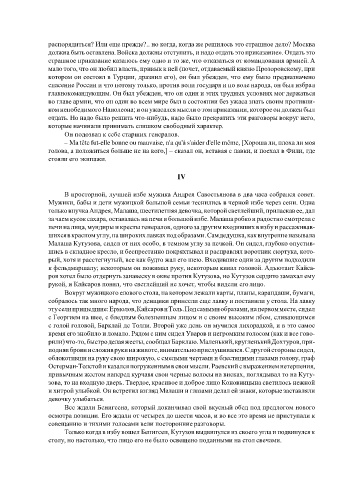Page 157 - Война и мир 3 том
P. 157
распорядиться? Или еще прежде?.. но когда, когда же решилось это страшное дело? Москва
должна быть оставлена. Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это
страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А
мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый князю Прозоровскому, при
котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убежден, что ему было предназначено
спасение России и что потому только, против воли государя и по воле народа, он был избрал
главнокомандующим. Он был убежден, что он один и этих трудных условиях мог держаться
во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без ужаса знать своим противни-
ком непобедимого Наполеона; и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был
отдать. Но надо было решить что-нибудь, надо было прекратить эти разговоры вокруг него,
которые начинали принимать слишком свободный характер.
Он подозвал к себе старших генералов.
– Ma tête fut-elle bonne ou mauvaise, n'a qu'à s'aider d'elle même, [Хороша ли, плоха ли моя
голова, а положиться больше не на кого,] – сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где
стояли его экипажи.
IV
В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет.
Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна
только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал
за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с
печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживав-
шихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла
Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустив-
шись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, кото-
рый, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили
к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайса-
ров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему
рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.
Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги,
собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку
эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел
с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся
с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое
время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все гово-
рили) что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, при-
подняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел,
облокотивши на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф
Остерман-Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения,
привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Куту-
зова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной
и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли
девочку улыбаться.
Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового
осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к
совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.
Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к
столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.