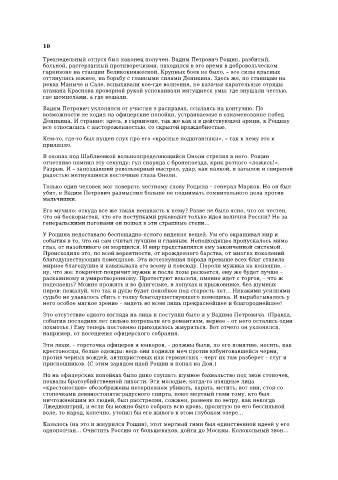Page 139 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 139
10
Трехнедельный отпуск был наконец получен. Вадим Петрович Рощин, разбитый,
больной, растерзанный противоречиями, находился в это время в добровольческом
гарнизоне на станции Великокняжеской. Крупных боев не было, – все силы красных
оттянулись южнее, на борьбу с главными силами Деникина. Здесь же, по станицам на
реках Маныче и Сале, вспыхивали кое-где волнения, но казачьи карательные отряды
атамана Краснова проворной рукой успокаивали мятущиеся умы: где внушали честью,
где шомполами, а где вешали.
Вадим Петрович уклонялся от участия в расправах, ссылаясь на контузию. По
возможности не ходил на офицерские попойки, устраиваемые в ознаменование побед
Деникина. И странно: здесь, в гарнизоне, так же как и в действующей армии, к Рощину
все относились с настороженностью, со скрытой враждебностью.
Кем-то, где-то был пущен слух про его «красные подштанники», – так к нему это и
прилипло.
В окопах под Шаблиевкой вольноопределяющийся Оноли стрелял в него. Рощин
отчетливо помнил эту секунду: гул снаряда с бронепоезда, крик ротного «ложись!».
Разрыв. И – запоздавший револьверный выстрел, удар, как палкой, в затылок и свирепой
радостью метнувшиеся восточные глаза Оноли.
Только один человек мог поверить честному слову Рощина – генерал Марков. Но он был
убит, и Вадим Петрович размыслил больше не поднимать сомнительного дела против
мальчишки.
Его мучило: откуда все же такая ненависть к нему? Разве не было ясно, что он честен,
что он бескорыстен, что его поступками руководит только идея величия России? Не за
генеральскими погонами он пошел в эти страшные степи…
У Рощина недоставало беспощадно-ясного видения вещей. Ум его окрашивал мир и
события в то, что он сам считал лучшим и главным. Неподходящее пропускалось мимо
глаз, от назойливого он морщился. И мир представлялся ему законченной системой.
Происходило это, по всей вероятности, от врожденного барства, от многих поколений
благодушествующих помещиков. Эта исчезнувшая порода превыше всех благ ставила
мирное благодушие и навязывала его всему и повсюду. Пороли мужика на конюшне, –
ну, что же: покричит-покричит мужик и после лозы раскается, ему же будет лучше –
раскаянному и умиротворенному. Протестуют векселя, имение идет с торгов, – что ж
поделаешь? Можно прожить и во флигельке, в лопухах и крыжовнике, без шумных
пиров: пожалуй, что так и душе будет покойнее под старость лет… Никакими усилиями
судьбе не удавалось сбить с толку благодушествующего помещика. И вырабатывалось у
него особое мягкое зрение – видеть во всем лишь прекраснейшее и благороднейшее!
Это отсутствие едкого взгляда на лица и поступки было и у Вадима Петровича. (Правда,
события последних лет сильно потрепали его романтизм, вернее – от него остались одни
лохмотья.) Ему теперь постоянно приходилось жмуриться. Вот отчего он уклонялся,
например, от посещения офицерского собрания.
Эти люди, – горсточка офицеров и юнкеров, – должны были, по его понятию, носить, как
крестоносцы, белые одежды: ведь они подняли меч против взбунтовавшейся черни,
против черных вождей, антихристовых или германских – черт их там разберет – слуг и
приспешников. (С этим зарядом идей Рощин и попал на Дон.)
Но на офицерских попойках было дико слушать шумное бахвальство под звон стопочек,
похвалы братоубийственной лихости. Эти молодые, когда-то изящные лица
«крестоносцев» обезображены нетерпением убивать, карать, мстить; вот они, стоя со
стопочками девяностопятиградусного спирта, поют мертвый гимн тому, кто был
ничтожнейшим из людей, был расстрелян, сожжен, развеян по ветру, как некогда
Лжедимитрий, и если бы можно было собрать всю кровь, пролитую по его бессильной
воле, то народ, конечно, утопил бы его живого в этом глубоком озере…
Казалось (на это и жмурился Рощин), этот мертвый гимн был единственной идеей у его
однополчан… Очистить Россию от большевиков, дойти до Москвы. Колокольный звон…