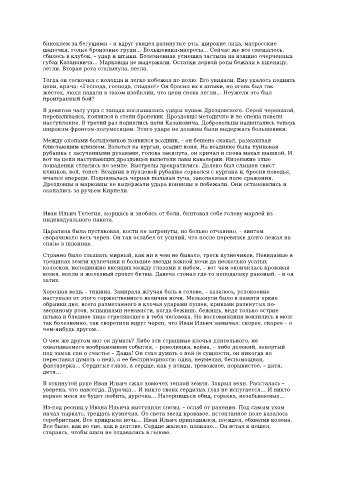Page 135 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 135
биноклем за бегущими – и вдруг увидел разинутые рты, широкие лица, матросские
шапочки, голые бронзовые груди… Большевики-матросы… Сейчас же все смешалось,
сбилось в клубок, – удар и штыки. Болезненная усмешка застыла на изящно очерченных
губах Казановича… Марковцы не выдержали. Остатки первой роты бежали в пшеницу,
легли. Вторая рота отхлынула, легла.
Тогда он соскочил с колодца и легко побежал по полю. Его увидали. Ему удалось поднять
цепи, крича: «Господа, господа, стыдно!» Он бросил их в штыки, но огонь был так
жесток, люди падали в таком изобилии, что цепи снова легли… Неужели это был
проигранный бой?
В девятом часу утра с запада послышались удары пушек Дроздовского. Серой черепахой,
переваливаясь, появился в степи броневик. Дроздовцы методично и не спеша повели
наступление. В третий раз поднялись цепи Казановича. Добровольцы надвигались теперь
широким фронтом-полумесяцем. Этого удара не должны были выдержать большевики.
Между окопами большевиков появился всадник, – он бешено скакал, размахивая
блистающим клинком. Взлетел на курган, осадил коня. На всаднике была пунцовая
рубашка с засученными рукавами, голова закинута, он кричал и снова махал шашкой. И
вот на цепи наступающих дроздовцев вылетели лавы кавалерии. Низенькие злые
лошаденки стлались по земле. Выстрелы прекратились. Далеко был слышен свист
клинков, вой, топот. Всадник в пунцовой рубашке сорвался с кургана и, бросив поводья,
мчался впереди. Поднималась черная пыльная туча, заволакивая поле сражения.
Дроздовцы и марковцы не выдержали удара конницы и побежали. Они остановились и
окопались за ручьем Кирпели.
Иван Ильич Телегин, морщась и знобясь от боли, бинтовал себе голову марлей из
индивидуального пакета.
Царапина была пустяковая, кости не затронуты, но больно отчаянно, – винтом
сворачивало весь череп. Он так ослабел от усилий, что после перевязки долго лежал на
спине в пшенице.
Странно было слышать мирный, как ни в чем не бывало, треск кузнечиков. Невидимые в
трещинах земли кузнечики и большие звезды южной ночи да несколько усатых
колосков, неподвижно висящих между глазами и небом, – вот чем окончилась кровавая
возня, вопли и железный грохот битвы. Давеча стонал где-то неподалеку раненый, – и он
затих.
Хорошая вещь – тишина. Замирала жгучая боль в голове, – казалось, успокоение
наступало от этого торжественного величия ночи. Мелькнули было в памяти яркие
обрывки дня, всего разметанного в клочья ударами пушек, криками разинутых по-
звериному ртов, вспышками ненависти, когда бежишь, бежишь, видя только острие
штыка и бледное лицо стреляющего в тебя человека. Но воспоминания вонзились в мозг
так болезненно, так своротили вдруг череп, что Иван Ильич замычал: скорее, скорее – о
чем-нибудь другом…
О чем же другом мог он думать? Либо эти страшные клочья длительного, не
охватываемого воображением события, – революция, война, – либо далекий, запертый
под замок сон о счастье – Даша! Он стал думать о ней (в сущности, он никогда не
переставал думать о ней), о ее беспризорности: одна, неумелая, беспомощная,
фантазерка… Сердитые глаза, а сердце, как у птицы, тревожное, порывистое, – дитя,
дитя…
В откинутой руке Иван Ильич сжал комочек теплой земли. Закрыл веки. Рассталась –
уверена, что навсегда. Дурочка… И никто твоих сердитых глаз не испугается… И никто
вернее меня не будет любить, дурочка… Натерпишься обид, горьких, незабываемых…
Из-под ресниц у Ивана Ильича выступили слезы, – ослаб от ранения. Под самым ухом
начал тыркать, трещать кузнечик. От света звезд кровавое, истоптанное поле казалось
серебристым. Все прикрыла ночь… Иван Ильич приподнялся, посидел, обхватив колена.
Все было, как во сне, как в детстве. Сердце жалело, плакало… Он встал и пошел,
стараясь, чтобы шаги не отдавались в голове.