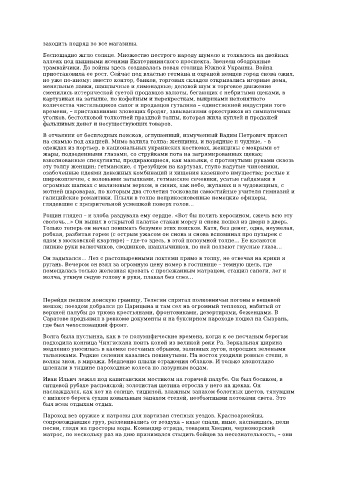Page 143 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 143
заходить подряд во все магазины.
Беспощадно жгло солнце. Множество пестрого народу шумело и толкалось на двойных
аллеях под пышными ясенями Екатерининского проспекта. Звенели ободранные
трамвайчики. До войны здесь создавалась новая столица Южной Украины. Война
приостановила ее рост. Сейчас под властью гетмана и охраной немцев город снова ожил,
но уже по-иному: вместо контор, банков, торговых складов открывались игорные дома,
меняльные лавки, шашлычные и лимонадные; деловой шум и торговое движение
сменились истерической суетой продавцов валюты, бегающих с небритыми щеками, в
картузиках на затылке, по кофейным и перекресткам, выкриками непонятного
количества чистильщиков сапог и продавцов гуталина – единственной индустрии того
времени, – приставаниями зловещих бродяг, завываниями оркестриков из симпатичных
уголков, бестолковой толкотней праздной толпы, которая жила куплей и продажей
фальшивых денег и несуществующих товаров.
В отчаянии от бесплодных поисков, оглушенный, измученный Вадим Петрович присел
на скамью под акацией. Мимо валила толпа: женщины, и нарядные и чудные, – в
одеждах из портьер, в национальных украинских костюмах, женщины с мокрыми от
жары, подведенными глазами, со струйками пота на загримированных щеках;
взволнованные спекулянты, продирающиеся, как маньяки, с протянутыми руками сквозь
эту толпу женщин; гетманские, с трезубцем на картузах, глупо надутые чиновники,
озабоченные идеями денежных комбинаций и хищения казенного имущества; рослые и
широкоплечие, с воловьими затылками, гетманские сечевики, усатые гайдамаки в
огромных шапках с малиновым верхом, в синих, как небо, жупанах и в чудовищных, с
мотней шароварах, по которым два столетия тосковали самостийные учителя гимназий и
галицийские романтики. Плыли в толпе неприкосновенные немецкие офицеры,
глядевшие с презрительной усмешкой поверх голов…
Рощин глядел – и злоба раздувала ему сердце. «Вот бы полить керосином, сжечь всю эту
сволочь…» Он выпил в открытой палатке стакан морсу и снова пошел из двери в дверь.
Только теперь он начал понимать безумие этих поисков. Катя, без денег, одна, неумелая,
робкая, разбитая горем (с острым ужасом он снова и снова вспоминал про пузырек с
ядом в московской квартире) – где-то здесь, в этой полоумной толпе… Ее касаются
липкие руки валютчиков, сводников, шашлычников, по ней ползают гнусные глаза…
Он задыхался… Лез с растопыренными локтями прямо в толпу, не отвечая на крики и
ругань. Вечером он взял за огромную цену номер в гостинице – темную щель, где
помещалась только железная кровать с пролежанным матрацем, стащил сапоги, лег и
молча, уткнув седую голову в руки, плакал без слез…
Перейдя пешком донскую границу, Телегин спрятал полковничьи погоны в вещевой
мешок; поездом добрался до Царицына и там сел на огромный теплоход, набитый от
верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В
Саратове предъявил в ревкоме документы и на буксирном пароходе пошел на Сызрань,
где был чехословацкий фронт.
Волга была пустынна, как в те полумифические времена, когда к ее песчаным берегам
подходила конница Чингисхана поить коней из великой реки Ра. Зеркальная ширина
медленно уносилась в каемке песчаных обрывов, заливных лугов, поросших зелеными
тальниками. Редкие селения казались покинутыми. На восток уходили ровные степи, в
волны зноя, в миражи. Медленно плыли отражения облаков. И только хлопотливо
шлепали в тишине пароходные колеса по лазурным водам.
Иван Ильич лежал под капитанским мостиком на горячей палубе. Он был босиком, в
ситцевой рубахе распояской; золотистая щетина отросла у него на щеках. Он
наслаждался, как кот на солнце, тишиной, влажным запахом болотных цветов, тянувшим
с низкого берега сухим ковыльным запахом степей, необъятными потоками света. Это
был всем отдыхам отдых.
Пароход вез оружие и патроны для партизан степных уездов. Красноармейцы,
сопровождавшие груз, разленивались от воздуха – иные спали, иные, наспавшись, пели
песни, глядя на просторы воды. Командир отряда, товарищ Хведин, черноморский
матрос, по нескольку раз на дню принимался стыдить бойцов за несознательность, – они