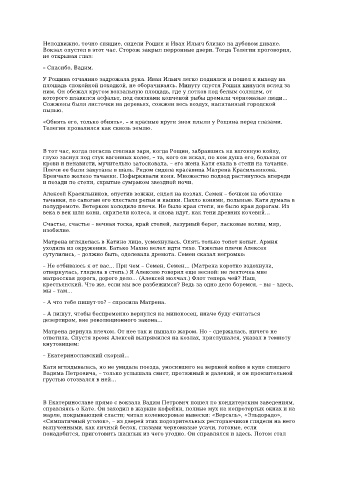Page 142 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 142
Неподвижно, точно спящие, сидели Рощин и Иван Ильич близко на дубовом диване.
Вокзал опустел в этот час. Сторож закрыл перронные двери. Тогда Телегин проговорил,
не открывая глаз:
– Спасибо, Вадим.
У Рощина отчаянно задрожала рука. Иван Ильич легко поднялся и пошел к выходу на
площадь спокойной походкой, не оборачиваясь. Минуту спустя Рощин кинулся вслед за
ним. Он обежал кругом вокзальную площадь, где у лотков под белым солнцем, от
которого плавился асфальт, под связками копченой рыбы дремали черномазые люди…
Сожжены были листочки на деревьях, сожжен весь воздух, напитанный городской
пылью.
«Обнять его, только обнять», – и красные круги зноя плыли у Рощина перед глазами.
Телегин провалился как сквозь землю.
В тот час, когда погасла степная заря, когда Рощин, забравшись на вагонную койку,
глухо заснул под стук вагонных колес, – та, кого он искал, по ком душа его, больная от
крови и ненависти, мучительно затосковала, – его жена Катя ехала в степи на тачанке.
Плечи ее были закутаны в шаль. Рядом сидела красавица Матрена Красильникова.
Бренчало железо тачанки. Пофыркивали кони. Множество подвод растянулось впереди
и позади по степи, скрытые сумраком звездной ночи.
Алексей Красильников, опустив вожжи, сидел на козлах. Семен – бочком на обочине
тачанки, по сапогам его хлестали репьи и кашки. Пахло конями, полынью. Катя думала в
полудремоте. Ветерком холодило плечи. Не было края степи, не было края дорогам. Из
века в век шли кони, скрипели колеса, и снова идут, как тени древних кочевий…
Счастье, счастье – вечная тоска, край степей, лазурный берег, ласковые волны, мир,
изобилие.
Матрена вгляделась в Катино лицо, усмехнулась. Опять только топот копыт. Армия
уходила из окружения. Батько Махно велел идти тихо. Тяжелые плечи Алексея
сутулились, – должно быть, одолевала дремота. Семен сказал негромко:
– Не отбиваюсь я от вас… При чем – Семен, Семен… (Матрена коротко вздохнула,
отвернулась, глядела в степь.) Я Алексею говорил еще весной: не ленточка мне
матросская дорога, дорого дело… (Алексей молчал.) Флот теперь чей? Наш,
крестьянский. Что же, если мы все разбежимся? Ведь за одно дело боремся, – вы – здесь,
мы – там…
– А что тебе пишут-то? – спросила Матрена.
– А пишут, чтобы беспременно вернулся на миноносец, иначе буду считаться
дезертиром, вне революционного закона…
Матрена дернула плечом. От нее так и пышало жаром. Но – сдержалась, ничего не
ответила. Спустя время Алексей выпрямился на козлах, прислушался, указал в темноту
кнутовищем:
– Екатеринославский скорый…
Катя вглядывалась, но не увидала поезда, уносившего на верхней койке в купе спящего
Вадима Петровича, – только услышала свист, протяжный и далекий, и он пронзительной
грустью отозвался в ней…
В Екатеринославе прямо с вокзала Вадим Петрович пошел по кондитерским заведениям,
справляясь о Кате. Он заходил в жаркие кофейни, полные мух на непротертых окнах и на
марле, покрывающей сласти; читал коленкоровые вывески: «Версаль», «Эльдорадо»,
«Симпатичный уголок», – из дверей этих подозрительных ресторанчиков глядели на него
выпученными, как яичный белок, глазами черномазые усачи, готовые, если
понадобится, приготовить шашлык из чего угодно. Он справлялся и здесь. Потом стал