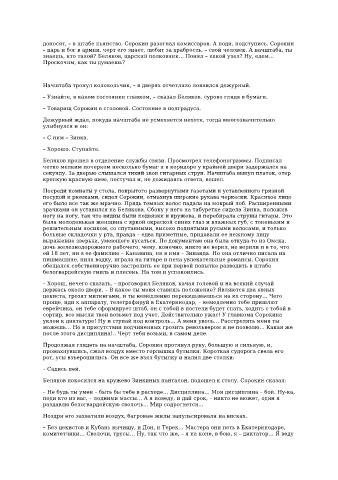Page 71 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 71
доносят, – в штабе пьянство. Сорокин разогнал комиссаров. А поди, подступись. Сорокин
– царь и бог в армии, черт его знает, любят за храбрость, – свой человек. А начштаба, ты
знаешь, кто такой? Беляков, царский полковник… Понял – какой узел? Ну, едем…
Проскочим, как ты думаешь?
Начштаба тронул колокольчик, – в дверях отчетливо появился дежурный.
– Узнайте, в каком состоянии главком, – сказал Беляков, сурово глядя в бумаги.
– Товарищ Сорокин в столовой. Состояние в полградуса.
Дежурный ждал, покуда начштаба не усмехнется нехотя, тогда многозначительно
улыбнулся и он:
– С ним – Зинка.
– Хорошо. Ступайте.
Беляков прошел в отделение службы связи. Просмотрел телефонограммы. Подписал
четко мелким почерком несколько бумаг и в коридоре у крайней двери задержался на
секунду. За дверью слышался тихий звон гитарных струн. Начштаба вынул платок, отер
крепкую красную шею, постучал и, не дожидаясь ответа, вошел.
Посреди комнаты у стола, покрытого развернутыми газетами и уставленного грязной
посудой и рюмками, сидел Сорокин, отмахнув широкие рукава черкески. Красивое лицо
его было все так же мрачно. Прядь темных волос падала на мокрый лоб. Расширенными
зрачками он уставился на Белякова. Сбоку у него на табуретке сидела Зинка, положив
ногу на ногу, так что видны были подвязки и кружева, и перебирала струны гитары. Это
была молоденькая женщина с яркой окраской синих глаз и влажных губ, с тоненьким и
решительным носиком, со спутанными, высоко поднятыми русыми волосами, и только
больные складочки у рта, правда – едва приметные, придавали ее нежному лицу
выражение зверька, умеющего кусаться. По документам она была откуда-то из Омска,
дочь железнодорожного рабочего, чему, конечно, никто не верил, не верили и в то, что
ей 18 лет, ни в ее фамилию – Канавина, ни в имя – Зинаида. Но она отлично писала на
пишмашине, пила водку, играла на гитаре и пела увлекательные романсы. Сорокин
обещался собственноручно застрелить ее при первой попытке разводить в штабе
белогвардейскую гниль и плесень. На том и успокоились.
– Хорош, нечего сказать, – проговорил Беляков, качая головой и на всякий случай
держась около двери. – В какое ты меня ставишь положение? Являются два явных
цекиста, грозят митингами, и ты немедленно перекидываешься на их сторону… Чего
проще, иди к аппарату, телеграфируй в Екатеринодар, – немедленно тебе пришлют
еврейчика, он тебе сформирует штаб, он с тобой в постели будет спать, ходить с тобой в
сортир, все мысли твои возьмет под учет. Действительно ужас! У главкома Сорокина
уклон к диктатуре! Ну и ступай под контроль… А меня уволь… Расстрелять меня ты
можешь… Но в присутствии подчиненных грозить револьвером я не позволю… Какая же
после этого дисциплина!.. Черт тебя возьми, в самом деле.
Продолжая глядеть на начштаба, Сорокин протянул руку, большую и сильную, и,
промахнувшись, сжал воздух вместо горлышка бутылки. Короткая судорога свела его
рот, усы взъерошились. Он все же взял бутылку и налил две стопки:
– Садись пей.
Беляков покосился на кружево Зинкиных панталон, подошел к столу. Сорокин сказал:
– Не будь ты умен – быть бы тебе в расходе… Дисциплина… Моя дисциплина – бой. Ну-ка,
поди кто из вас, – подними массы… А я поведу, и дай срок, – никто не может, один я
раздавлю белогвардейскую сволочь… Мир содрогнется…
Ноздри его захватили воздух, багровые жилы запульсировали на висках.
– Без цекистов и Кубань вычищу, и Дон, и Терек… Мастера они петь в Екатеринодаре,
комитетчики… Сволочи, трусы… Ну, так что же, – я на коне, в бою, я – диктатор… Я веду