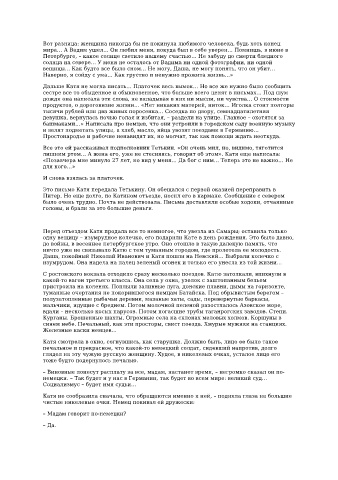Page 83 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 83
Вот разница: женщина никогда бы не покинула любимого человека, будь хоть конец
мира… А Вадим ушел… Он любил меня, покуда был в себе уверен… Помнишь, в июне в
Петербурге, – какое солнце светило нашему счастью… Не забуду до смерти бледного
солнца на севере… У меня не осталось от Вадима ни одной фотографии, ни одной
вещицы… Как будто все было сном… Не могу, Даша, не могу понять, что он убит…
Наверно, я сойду с ума… Как грустно и ненужно прожита жизнь…»
Дальше Катя не могла писать… Платочек весь вымок… Но все же нужно было сообщить
сестре все то обыденное и обыкновенное, что больше всего ценят в письмах… Под шум
дождя она написала эти слова, не вкладывая в них ни мысли, ни чувства… О стоимости
продуктов, о дороговизне жизни… «Нет никаких материй, ниток… Иголка стоит полторы
тысячи рублей или два живых поросенка… Соседка по двору, семнадцатилетняя
девушка, вернулась ночью голая и избитая, – раздели на улице. Главное – охотятся за
башмаками…» Написала про немцев, что они устроили в городском саду военную музыку
и велят подметать улицы, а хлеб, масло, яйца увозят поездами в Германию…
Простонародье и рабочие ненавидят их, но молчат, так как помощи ждать неоткуда.
Все это ей рассказывал подполковник Тетькин. «Он очень мил, но, видимо, тяготится
лишним ртом… А жена его, уже не стесняясь, говорит об этом». Катя еще написала:
«Позавчера мне минуло 27 лет, но вид у меня… Да бог с ним… Теперь это не важно… Не
для кого…»
И снова взялась за платочек.
Это письмо Катя передала Тетькину. Он обещался с первой оказией переправить в
Питер. Но еще долго, по Катином отъезде, носил его в кармане. Сообщение с севером
было очень трудно. Почта не действовала. Письма доставляли особые ходоки, отчаянные
головы, и брали за это большие деньги.
Перед отъездом Катя продала все то немногое, что увезла из Самары; оставила только
одну вещицу – изумрудное колечко, его подарили Кате в день рождения. Это было давно,
до войны, в весеннее петербургское утро. Оно отошло в такую далекую память, что
ничто уже не связывало Катю с тем туманным городом, где пролетела ее молодость.
Даша, покойный Николай Иванович и Катя пошли на Невский… Выбрали колечко с
изумрудом. Она надела на палец зеленый огонек и только его унесла из той жизни…
С ростовского вокзала отходило сразу несколько поездов. Катю затолкали, впихнули в
какой-то вагон третьего класса. Она села у окна, узелок с заштопанным бельем
пристроила на коленях. Поплыли заливные луга, донские плавни, дымы на горизонте,
туманные очертания не покорившегося немцам Батайска. Под обрывистым берегом –
полузатопленные рыбачьи деревни, мазаные хаты, сады, перевернутые баркасы,
мальчики, идущие с бреднем. Потом молочной пеленой разостлалось Азовское море,
вдали – несколько косых парусов. Потом погасшие трубы таганрогских заводов. Степи.
Курганы. Брошенные шахты. Огромные села на склонах меловых холмов. Коршуны в
синем небе. Печальный, как эти просторы, свист поезда. Хмурые мужики на станциях.
Железные каски немцев…
Катя смотрела в окно, согнувшись, как старушка. Должно быть, лицо ее было такое
печальное и прекрасное, что какой-то немецкий солдат, сидевший напротив, долго
глядел на эту чужую русскую женщину. Худое, в никелевых очках, усталое лицо его
тоже будто подернулось печалью.
– Виновные понесут расплату за все, мадам, настанет время, – негромко сказал он по-
немецки. – Так будет и у нас в Германии, так будет во всем мире: великий суд…
Социализмус – будет имя судьи…
Катя не сообразила сначала, что обращаются именно к ней, – подняла глаза на большие
чистые никелевые очки. Немец покивал ей дружески:
– Мадам говорит по-немецки?
– Да.