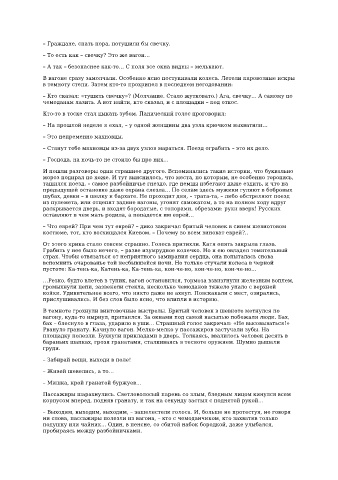Page 88 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 88
– Граждане, спать пора, потушили бы свечку.
– То есть как – свечку? Это же вагон…
– А так – безопаснее как-то… С поля все окна видны – мелькают.
В вагоне сразу замолчали. Особенно ясно постукивали колеса. Летели паровозные искры
в темноту степи. Затем кто-то прохрипел в последнем негодовании:
– Кто сказал: «тушить свечку»? (Молчание. Стало жутковато.) Ага, свечку… А самому по
чемоданам лазить. А вот найти, кто сказал, и с площадки – под откос.
Кто-то в тоске стал цыкать зубом. Панический голос проговорил:
– На прошлой неделе я ехал, – у одной женщины два узла крючком выхватили…
– Это непременно махновцы.
– Станут тебе махновцы из-за двух узлов мараться. Поезд ограбить – это их дело.
– Господа, на ночь-то не стоило бы про них…
И пошли разговоры один страшнее другого. Вспоминались такие истории, что буквально
мороз подирал по коже. И тут выяснилось, что места, по которым, не особенно торопясь,
тащился поезд, – самое разбойничье гнездо, где немцы избегают даже ездить, и что на
предыдущей остановке даже охрана слезла… По селам здесь мужики гуляют в бобровых
шубах, девки – в шелку и бархате. Не проходит дня, – тратa-та, – либо обстреляют поезд
из пулемета, или отцепят задние вагоны, угонят самокатом, а то на полном ходу вдруг
раскрывается дверь, и входят бородатые, с топорами, обрезами: руки вверх! Русских
оставляют в чем мать родила, а попадется им еврей…
– Что еврей? При чем тут еврей? – дико закричал бритый человек в синем шевиотовом
костюме, тот, кто восхищался Киевом. – Почему во всем виноват еврей?..
От этого крика стало совсем страшно. Голоса притихли. Катя опять закрыла глаза.
Грабить у нее было нечего, – разве изумрудное колечко. Но и ею овладел томительный
страх. Чтобы отвязаться от неприятного замирания сердца, она попыталась снова
вспомнить очарованье той несбывшейся ночи. Но только стучали колеса в черной
пустоте: Ка-тень-ка, Катень-ка, Ка-тень-ка, кон-че-но, кон-че-но, кон-че-но…
…Резко, будто влетев в тупик, вагон остановился, тормоза взвизгнули железным воплем,
громыхнули цепи, зазвенели стекла, несколько чемоданов тяжело упало с верхней
койки. Удивительнее всего, что никто даже не ахнул. Повскакали с мест, озирались,
прислушивались. И без слов было ясно, что влипли в историю.
В темноте грохнули винтовочные выстрелы. Бритый человек в шевиоте метнулся по
вагону, куда-то нырнул, притаился. За окнами под самой насыпью побежали люди. Бах,
бах – блеснуло в глаза, ударило в уши… Страшный голос закричал: «Не высовываться!»
Рвануло гранату. Качнуло вагон. Мелко-мелко у пассажиров застучали зубы. На
площадку полезли. Бухнули прикладами в дверь. Толкаясь, ввалилось человек десять в
бараньих шапках, грозя гранатами, сталкиваясь в тесноте оружием. Шумно дышали
груди.
– Забирай вещи, выходи в поле!
– Живей шевелись, а то…
– Мишка, крой гранатой буржуев…
Пассажиры шарахнулись. Светловолосый парень со злым, бледным лицом кинулся всем
корпусом вперед, подняв гранату, и так на секунду застыл с поднятой рукой…
– Выходим, выходим, выходим, – зашелестели голоса. И, больше не протестуя, не говоря
ни слова, пассажиры полезли из вагона, – кто с чемоданчиком, кто захватив только
подушку или чайник… Один, в пенсне, со сбитой набок бородкой, даже улыбался,
пробираясь между разбойничками.