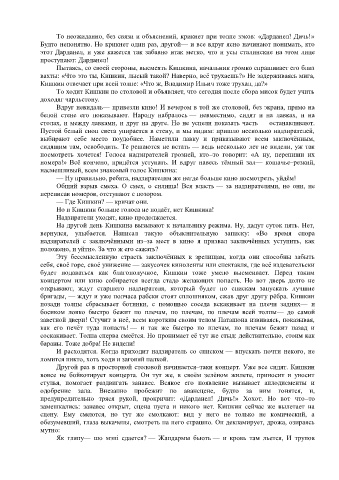Page 667 - Архипелаг ГУЛаг
P. 667
То неожиданно, без связи и объяснений, крикнет при толпе зэков: «Дарданел! Дичь!»
Будто непонятно. Но крикнет один раз, другой— и все вдруг ясно начинают понимать, кто
этот Дарданел, и уже кажется так забавно итак метко, что и усы сталинские на этом лице
проступают: Дарданел!
Пытаясь, со своей стороны, высмеять Кишкина, начальник громко спрашивает его близ
вахты: «Что это ты, Кишкин, лысый такой? Наверно, всё трухаешь?» Не задерживаясь мига,
Кишкин отвечает при всей толпе: «Что ж, Владимир Ильич тоже трухал, да?»
То ходит Кишкин по столовой и объявляет, что сегодня после сбора мисок будет учить
доходяг чарльстону.
Вдруг невидаль— привезли кино! И вечером в той же столовой, без экрана, прямо на
белой стене его показывают. Народу набралось — невместимо, сидят и на лавках, и на
столах, и между лавками, и друг на друге. Но не успели показать часть — останавливают.
Пустой белый сноп света упирается в стену, и мы видим: пришло несколько надзирателей,
выбирают себе место поудобнее. Наметили лавку и приказывают всем заключённым,
сидящим там, освободить. Те решаются не встать — ведь несколько лет не видели, уж так
посмотреть хочется! Голоса надзирателей грозней, кто–то говорит: «А ну, перепиши их
номера!» Всё кончено, придётся уступать. И вдруг навесь тёмный зал— кошачье–резкий,
насмешливый, всем знакомый голос Кишкина:
— Ну правильно, ребята, надзирателям же негде больше кино посмотреть, уйдём!
Общий взрыв смеха. О смех, о силища! Вся власть — за надзирателями, но они, не
переписав номеров, отступают с позором.
— Где Кишкин? — кричат они.
Но и Кишкин больше голоса не подаёт, нет Кишкина!
Надзиратели уходят, кино продолжается.
На другой день Кишкина вызывают к начальнику режима. Ну, дадут суток пять. Нет,
вернулся, улыбается. Написал такую объяснительную записку: «Во время спора
надзирателей с заключёнными из–за мест в кино я призвал заключённых уступить, как
положено, и уйти». За что ж его сажать?
Эту бессмысленную страсть заключённых к зрелищам, когда они способны забыть
себя, своё горе, своё унижение — закусочек киноленты или спектакля, где всё издевательски
будет подаваться как благополучное, Кишкин тоже умело высмеивает. Перед таким
концертом или кино собирается всегда стадо желающих попасть. Но вот дверь долго не
открывают, ждут старшего надзирателя, который будет по спискам запускать лучшие
бригады, — ждут и уже полчаса рабски стоят сплошняком, сжав друг другу рёбра. Кишкин
позади толпы сбрасывает ботинки, с помощью соседа вскакивает на плечи задних— и
босиком ловко быстро бежит по плечам, по плечам, по плечам всей толпы— до самой
заветной двери! Стучит в неё, всем коротким своим телом Паташона извиваясь, показывая,
как его печёт туда попасть! — и так же быстро по плечам, по плечам бежит назад и
соскакивает. Толпа сперва смеётся. Но пронимает её тут же стыд: действительно, стоим как
бараны. Тоже добра! Не видели!
И расходятся. Когда приходит надзиратель со списком — впускать почти некого, не
ломится никто, хоть ходи и загоняй палкой.
Другой раз в просторной столовой начинается–таки концерт. Уже все сидят. Кишкин
вовсе не бойкотирует концерта. Он тут же, в своём зелёном жилете, приносит и уносит
стулья, помогает раздвигать занавес. Всякое его появление вызывает аплодисменты и
одобрение зала. Внезапно пробежит по авансцене, будто за ним гонятся, и,
предупредительно тряся рукой, прокричит: «Дарданел! Дичь!» Хохот. Но вот что–то
замешкались: занавес открыт, сцена пуста и никого нет. Кишкин сейчас же вылетает на
сцену. Ему смеются, но тут же смолкают: вид у него не только не комический, а
обезумевший, глаза выкачены, смотреть на него страшно. Он декламирует, дрожа, озираясь
мутно:
Як гляну— шо мэні сдается? — Жандармы бьють — и кровь там льется, И трупов