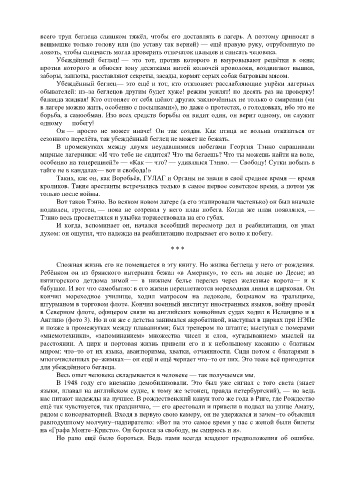Page 669 - Архипелаг ГУЛаг
P. 669
всего труп беглеца слишком тяжёл, чтобы его доставлять в лагерь. А поэтому приносят в
вещмешке только голову или (по уставу так верней) — ещё правую руку, отрубленную по
локоть, чтобы спецчасть могла проверить отпечаток пальцев и списать человека.
Убеждённый беглец! — это тот, против которого и вмуровывают решётки в окна;
против которого и обносят зону десятками нитей колючей проволоки, воздвигают вышки,
заборы, заплоты, расставляют секреты, засады, кормят серых собак багровым мясом.
Убеждённый беглец— это ещё и тот, кто отклоняет расслабляющие упрёки лагерных
обывателей: из–за беглецов другим будет хуже! режим усилят! по десять раз на проверку!
баланда жидкая! Кто отгоняет от себя шёпот других заключённых не только о смирении («и
в лагере можно жить, особенно с посылками»), но даже о протестах, о голодовках, ибо это не
борьба, а самообман. Изо всех средств борьбы он видит один, он верит одному, он служит
одному — побегу!
Он — просто не может иначе! Он так создан. Как птица не вольна отказаться от
сезонного перелёта, так убеждённый беглец не может не бежать.
В промежутках между двумя неудавшимися побегами Георгия Тэнно спрашивали
мирные лагерники: «И что тебе не сидится? Что ты бегаешь? Что ты можешь найти на воле,
особенно на теперешней?» — «Как — что? — удивлялся Тэнно. — Свободу! Сутки побыть в
тайге не в кандалах— вот и свобода!»
Таких, как он, как Воробьёв, ГУЛАГ и Органы не знали в своё среднее время — время
кроликов. Такие арестанты встречались только в самое первое советское время, а потом уж
только после войны.
Вот таков Тэнно. Во всяком новом лагере (а его этапировали частенько) он был вначале
подавлен, грустен, — пока не созревал у него план побега. Когда же план появлялся, —
Тэнно весь просветлялся и улыбка торжествовала на его губах.
И когда, вспоминает он, начался всеобщий пересмотр дел и реабилитации, он упал
духом: он ощутил, что надежда на реабилитацию подрывает его волю к побегу.
* * *
Сложная жизнь его не помещается в эту книгу. Но жилка беглеца у него от рождения.
Ребёнком он из брянского интерната бежал «в Америку», то есть на лодке по Десне; из
пятигорского детдома зимой — в нижнем белье перелез через железные ворота— и к
бабушке. И вот что самобытно: в его жизни переплетаются мореходная линия и цирковая. Он
кончил мореходное училище, ходил матросом на ледоколе, боцманом на тральщике,
штурманом в торговом флоте. Кончил военный институт иностранных языков, войну провёл
в Северном флоте, офицером связи на английских конвойных судах ходил в Исландию и в
Англию (фото 3). Но и он же с детства занимался акробатикой, выступал в цирках при НЭПе
и позже в промежутках между плаваниями; был тренером по штанге; выступал с номерами
«мнемотехники», «запоминанием» множества чисел и слов, «угадыванием» мыслей на
расстоянии. А цирк и портовая жизнь привели его и к небольшому касанию с блатным
миром: что–то от их языка, авантюризма, хватки, отчаянности. Сидя потом с блатарями в
многочисленных ре–жимках— он ещё и ещё черпает что–то от них. Это тоже всё пригодится
для убеждённого беглеца.
Весь опыт человека складывается в человеке — так получаемся мы.
В 1948 году его внезапно демобилизовали. Это был уже сигнал с того света (знает
языки, плавал на английском судне, к тому же эстонец, правда петербургский), — но ведь
нас питают надежды на лучшее. В рождественский канун того же года в Риге, где Рождество
ещё так чувствуется, так празднично, — его арестовали и привели в подвал на улице Амату,
рядом с консерваторией. Входя в первую свою камеру, он не удержался и зачем–то объяснил
равнодушному молчуну–надзирателю: «Вот на это самое время у нас с женой были билеты
на «Графа Монте–Кристо». Он боролся за свободу, не смирюсь и я».
Но рано ещё было бороться. Ведь нами всегда владеют предположения об ошибке.