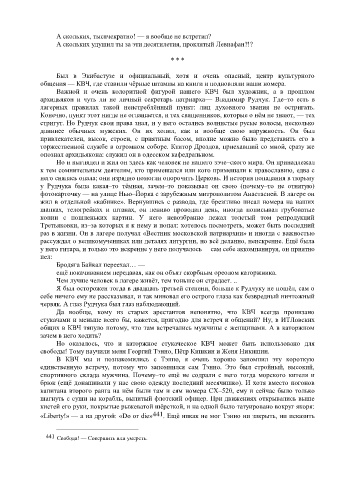Page 665 - Архипелаг ГУЛаг
P. 665
А скольких, тысячекратно! — я вообще не встретил?
А скольких удушил ты за эти десятилетия, проклятый Левиафан?!?
* * *
Был в Экибастузе и официальный, хотя и очень опасный, центр культурного
общения — КВЧ, где ставили чёрные штампы на книги и подновляли наши номера.
Важной и очень колоритной фигурой нашего КВЧ был художник, а в прошлом
архидьякон и чуть ли не личный секретарь патриарха— Владимир Рудчук. Где–то есть в
лагерных правилах такой неистреблённый пункт: лиц духовного звания не остригать.
Конечно, пункт этот нигде не оглашается, и тех священников, которые о нём не знают, — тех
стригут. Но Рудчук свои права знал, и у него остались волнистые русые волосы, несколько
длиннее обычных мужских. Он их холил, как и вообще свою наружность. Он был
привлекателен, высок, строен, с приятным басом, вполне можно было представить его в
торжественной службе в огромном соборе. Ктитор Дроздов, приехавший со мной, сразу же
опознал архидьякона: служил он в одесском кафедральном.
Но и выглядел и жил он здесь как человек не нашего зэче–ского мира. Он принадлежал
к тем сомнительным деятелям, кто примешался или кого примешали к православию, едва с
него снялась опала; они изрядно помогли опорочить Церковь. И история попадания в тюрьму
у Рудчука была какая–то тёмная, зачем–то показывал он свою (почему–то не отнятую)
фотокарточку — на улице Нью–Йорка с зарубежным митрополитом Анастасией. В лагере он
жил в отдельной «кабинке». Вернувшись с развода, где брезгливо писал номера на наших
шапках, телогрейках и штанах, он лениво проводил день, иногда пописывал грубоватые
копии с пошленьких картин. У него невозбранно лежал толстый том репродукций
Третьяковки, из–за которых я к нему и попал: хотелось посмотреть, может быть последний
раз в жизни. Он в лагере получал «Вестник московской патриархии» и иногда с важностью
рассуждал о великомучениках или деталях литургии, но всё деланно, неискренне. Ещё была
у него гитара, и только это искренне у него получалось— сам себе аккомпанируя, он приятно
пел:
Бродяга Байкал переехал… —
ещё покачиванием передавая, как он объят скорбным ореолом каторжника.
Чем лучше человек в лагере живёт, тем тоньше он страдает. ..
Я был осторожен тогда в двадцать третьей степени, больше к Рудчуку не пошёл, сам о
себе ничего ему не рассказывал, и так миновал его острого глаза как безвредный ничтожный
червяк. А глаз Рудчука был глаз наблюдающий.
Да вообще, кому из старых арестантов непонятно, что КВЧ всегда пронизано
стукачами и меньше всего бы, кажется, пригодно для встреч и общений? Ну, в ИТЛовских
общих в КВЧ тянуло потому, что там встречались мужчины с женщинами. А в каторжном
зачем в него ходить?
Но оказалось, что и каторжное стукаческое КВЧ может быть использовано для
свободы! Тому научили меня Георгий Тэнно, Пётр Кишкин и Женя Никишин.
В КВЧ мы и познакомились с Тэнно, я очень хорошо запомнил эту короткую
единственную встречу, потому что запомнился сам Тэнно. Это был стройный, высокий,
спортивного склада мужчина. Почему–то ещё не содрали с него тогда морского кителя и
брюк (ещё донашивали у нас свою одежду последний месячишко). И хотя вместо погонов
капитана второго ранга на нём были там и сям номера СХ–520, ему и сейчас было только
шагнуть с суши на корабль, вылитый флотский офицер. При движениях открывались выше
кистей его руки, покрытые рыжеватой шёрсткой, и на одной было татуировано вокруг якоря:
«Liberty!» — а на другой: «Do or die» 441 . Ещё никак не мог Тэнно ни закрыть, ни исказить
441 Свобода! — Совершить или умереть.