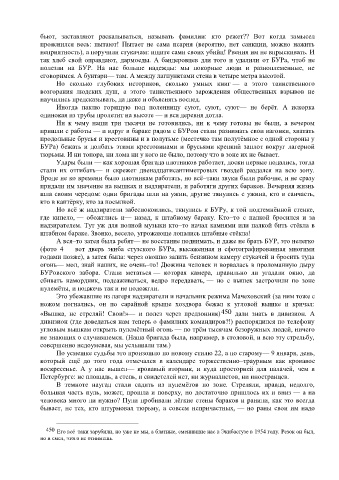Page 730 - Архипелаг ГУЛаг
P. 730
бьют, заставляют раскалываться, называть фамилии: кто режет?? Вот когда замысел
прояснился весь: пытают! Пытает не сама псарня (вероятно, нет санкции, можно нажить
неприятность), а поручили стукачам: ищите сами своих убийц! Рвения им не впрыскивать. И
так хлеб свой оправдают, дармоеды. А бандеровцев для того и удалили от БУРа, чтоб не
полезли на БУР. На нас больше надежды: мы покорные люди и разноплеменные, не
сговоримся. А бунтари— там. А между лагпунктами стена в четыре метра высотой.
Но сколько глубоких историков, сколько умных книг — а этого таинственного
возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не
научились предсказывать, да даже и объяснять вослед.
Иногда паклю горящую под поленницу суют, суют, суют— не берёт. А искорка
одинокая из трубы пролетит на высоте — и вся деревня дотла.
Ни к чему наши три тысячи не готовились, ни к чему готовы не были, а вечером
пришли с работы — и вдруг в бараке рядом с БУРом стали разнимать свои вагонки, хватать
продольные брусья и крестовины и в полутьме (местечко там полутёмное с одной стороны у
БУРа) бежать и долбать этими крестовинами и брусьями крепкий заплот вокруг лагерной
тюрьмы. И ни топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не бывает.
Удары были — как хорошая бригада плотников работает, доски первые подались, тогда
стали их отгибать— и скрежет двенадцатисантиметровых гвоздей раздался на всю зону.
Вроде не ко времени было плотникам работать, но всё–таки звуки были рабочие, и не сразу
придали им значение на вышках и надзиратели, и работяги других бараков. Вечерняя жизнь
шла своим чередом: одни бригады шли на ужин, другие тянулись с ужина, кто в санчасть,
кто в каптёрку, кто за посылкой.
Но всё ж надзиратели забеспокоились, ткнулись к БУРу, к той подтемнённой стенке,
где кипело, — обожглись и— назад, к штабному бараку. Кто–то с палкой бросился и за
надзирателем. Тут уж для полной музыки кто–то начал камнями или палкой бить стёкла в
штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались штабные стёкла!
А вся–то затея была ребят— не восстание поднимать, и даже не брать БУР, это нелегко
(фото 4 — вот дверь экиба–стузского БУРа, высаженная и сфотографированная многими
годами позже), а затея была: через окошко залить бензином камеру стукачей и бросить туда
огонь— мол, знай наших, не очень–то! Дюжина человек и ворвалась в проломанную дыру
БУРовского забора. Стали метаться — которая камера, правильно ли угадали окно, да
сбивать намордник, подсаживаться, ведро передавать, — но с вышек застрочили по зоне
пулемёты, и поджечь так и не подожгли.
Это убежавшие из лагеря надзиратели и начальник режима Мачеховский (за ним тоже с
ножом погнались, он по сарайной крыше хоздвора бежал к угловой вышке и кричал:
«Вышка, не стреляй! Свои!»— и полез через предзонник) 450 дали знать в дивизион. А
дивизион (где доведаться нам теперь о фамилиях командиров?!) распорядился по телефону
угловым вышкам открыть пулемётный огонь — по трём тысячам безоружных людей, ничего
не знающих о случившемся. (Наша бригада была, например, в столовой, и всю эту стрельбу,
совершенно недоумевая, мы услышали там.)
По усмешке судьбы это произошло по новому стилю 22, а по старому— 9 января, день,
который ещё до того года отмечался в календаре торжественно–траурным как кровавое
воскресенье. А у нас вышел— кровавый вторник, и куда просторней для палачей, чем в
Петербурге: не площадь, а степь, и свидетелей нет, ни журналистов, ни иностранцев.
В темноте наугад стали садить из пулемётов по зоне. Стреляли, правда, недолго,
большая часть пуль, может, прошла и поверху, но достаточно пришлось их и вниз — а на
человека много ли нужно? Пули пробивали лёгкие стены бараков и ранили, как это всегда
бывает, не тех, кто штурмовал тюрьму, а совсем непричастных, — но раны свои им надо
450 Его всё–таки зарубили, но уже не мы, а блатные, сменившие нас в Экибастузе в 1954 году. Резок он был,
но и смел, этого не отнимешь.