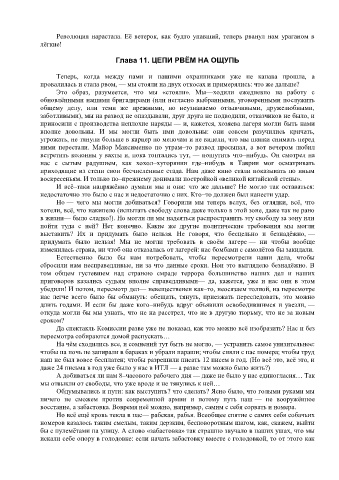Page 728 - Архипелаг ГУЛаг
P. 728
Революция нарастала. Её ветерок, как будто упавший, теперь рванул нам ураганом в
лёгкие!
Глава 11. ЦЕПИ РВЁМ НА ОЩУПЬ
Теперь, когда между нами и нашими охранниками уже не канава прошла, а
провалилась и стала рвом, — мы стояли на двух откосах и примерялись: что же дальше?
Это образ, разумеется, что мы «стояли». Мы—ходили ежедневно на работу с
обновлёнными нашими бригадирами (или негласно выбранными, уговоренными послужить
общему делу, или теми же прежними, но неузнаваемо отзывчивыми, дружелюбными,
заботливыми), мы на развод не опаздывали, друг друга не подводили, отказчиков не было, и
приносили с производства неплохие наряды — и, кажется, хозяева лагеря могли быть нами
вполне довольны. И мы могли быть ими довольны: они совсем разучились кричать,
угрожать, не тянули больше в карцер по мелочам и не видели, что мы шапки снимать перед
ними перестали. Майор Максименко по утрам–то развод просыпал, а вот вечером любил
встретить колонны у вахты и, пока топтались тут, — пошутить что–нибудь. Он смотрел на
нас с сытым радушием, как хохол–хуторянин где–нибудь в Таврии мог осматривать
приходящие из степи свои бесчисленные стада. Нам даже кино стали показывать по иным
воскресеньям. И только по–прежнему донимали постройкой «великой китайской стены».
И всё–таки напряжённо думали мы и они: что же дальше? Не могло так оставаться:
недостаточно это было с нас и недостаточно с них. Кто–то должен был нанести удар.
Но — чего мы могли добиваться? Говорили мы теперь вслух, без оглядки, всё, что
хотели, всё, что накипело (испытать свободу слова даже только в этой зоне, даже так не рано
в жизни— было сладко!). Но могли ли мы надеяться распространить эту свободу за зону или
пойти туда с ней? Нет конечно. Какие же другие политические требования мы могли
выставить? Их и придумать было нельзя. Не говоря, что бесцельно и безнадёжно, —
придумать было нельзя! Мы не могли требовать в своём лагере — ни чтобы вообще
изменилась страна, ни чтоб она отказалась от лагерей: нас бомбами с самолётов бы закидали.
Естественно было бы нам потребовать, чтобы пересмотрели наши дела, чтобы
сбросили нам несправедливые, ни за что данные сроки. Нои это выглядело безнадёжно. В
том общем густевшем над страною смраде террора большинство наших дел и наших
приговоров казались судьям вполне справедливыми— да, кажется, уже и нас они в этом
убедили! И потом, пересмотр дел— невещественен как–то, неосязаем толпой, на пересмотре
нас легче всего было бы обмануть: обещать, тянуть, приезжать переследовать, это можно
длить годами. И если бы даже кого–нибудь вдруг объявили освободившимся и увезли, —
откуда могли бы мы узнать, что не на расстрел, что не в другую тюрьму, что не за новым
сроком?
Да спектакль Комиссии разве уже не показал, как это можно всё изобразить? Нас и без
пересмотра собираются домой распускать…
На чём сходились все, и сомнений тут быть не могло, — устранить самое унизительное:
чтобы на ночь не запирали в бараках и убрали параши; чтобы сняли с нас номера; чтобы труд
наш не был вовсе бесплатен; чтобы разрешили писать 12 писем в год. (Но всё это, всё это, и
даже 24 письма в год уже было у нас в ИТЛ — а разве там можно было жить?)
А добиваться ли нам 8–часового рабочего дня — даже не было у нас единогласия… Так
мы отвыкли от свободы, что уже вроде и не тянулись к ней…
Обдумывались и пути: как выступить? что сделать? Ясно было, что голыми руками мы
ничего не сможем против современной армии и потому путь наш — не вооружённое
восстание, а забастовка. Вовремя неё можно, например, самим с себя сорвать и номера.
Но всё ещё кровь текла в нас— рабская, рабья. Всеобщее снятие с самих себя собачьих
номеров казалось таким смелым, таким дерзким, бесповоротным шагом, как, скажем, выйти
бы с пулемётами на улицу. А слово «забастовка» так страшно звучало в наших ушах, что мы
искали себе опору в голодовке: если начать забастовку вместе с голодовкой, то от этого как