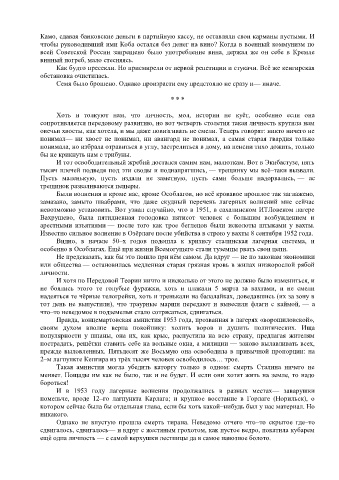Page 743 - Архипелаг ГУЛаг
P. 743
Камо, сдавая банковские деньги в партийную кассу, не оставляли свои карманы пустыми. И
чтобы руководивший ими Коба остался без денег на вино? Когда в военный коммунизм по
всей Советской России запрещено было употребление вина, держал же он себе в Кремле
винный погреб, мало стесняясь.
Как будто пресекли. Но присмирели от первой репетиции и стукачи. Всё же кенгирская
обстановка очистилась.
Семя было брошено. Однако произрасти ему предстояло не сразу и— иначе.
* * *
Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не куёт, особенно если она
сопротивляется передовому развитию, но вот четверть столетия такая личность крутила нам
овечьи хвосты, как хотела, и мы даже повизгивать не смели. Теперь говорят: никто ничего не
понимал— ни хвост не понимал, ни авангард не понимал, а самая старая гвардия только
понимала, но избрала отравиться в углу, застрелиться в дому, на пенсии тихо дожить, только
бы не крикнуть нам с трибуны.
И тот освободительный жребий достался самим нам, малюткам. Вот в Экибастузе, пять
тысяч плечей подведя под эти своды и поднапрягшись, — трещинку мы всё–таки вызвали.
Пусть маленькую, пусть издали не заметную, пусть сами больше надорвались, — ас
трещинок разваливаются пещеры.
Были волнения и кроме нас, кроме Особлагов, но всё кровавое прошлое так заглажено,
замазано, замыто швабрами, что даже скудный перечень лагерных волнений мне сейчас
невозможно установить. Вот узнал случайно, что в 1951, в сахалинском ИТЛовеком лагере
Вахрушево, была пятидневная голодовка пятисот человек с большим возбуждением и
арестными изъятиями — после того как трое беглецов были исколоты штыками у вахты.
Известно сильное волнение в Озёрлаге после убийства в строю у вахты 8 сентября 1952 года.
Видно, в начале 50–х годов подошла к кризису сталинская лагерная система, и
особенно в Особлагах. Ещё при жизни Всемогущего стали туземцы рвать свои цепи.
Не предсказать, как бы это пошло при нём самом. Да вдруг — не по законам экономики
или общества — остановилась медленная старая грязная кровь в жилах низкорослой рябой
личности.
И хотя по Передовой Теории ничто и нисколько от этого не должно было измениться, и
не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вахтами, и не смели
надеяться те чёрные телогрейки, хоть и тренькали на балалайках, доведавшись (их за зону в
тот день не выпустили), что траурные марши передают и вывесили флаги с каймой, — а
что–то неведомое в подземельи стало сотрясаться, сдвигаться.
Правда, концемартовская амнистия 1953 года, прозванная в лагерях «ворошиловской»,
своим духом вполне верна покойнику: холить воров и душить политических. Ища
популярности у шпаны, она их, как крыс, распустила на всю страну, предлагая жителям
пострадать, решётки ставить себе на вольные окна, а милиции — заново вылавливать всех,
прежде выловленных. Пятьдесят же Восьмую она освободила в привычной пропорции: на
2–м лагпункте Кенгира из трёх тысяч человек освободилось… трое.
Такая амнистия могла убедить каторгу только в одном: смерть Сталина ничего не
меняет. Пощады им как не было, так и не будет. И если они хотят жить на земле, то надо
бороться!
И в 1953 году лагерные волнения продолжались в разных местах— заварушки
помельче, вроде 12–го лагпункта Карлага; и крупное восстание в Горлаге (Норильск), о
котором сейчас была бы отдельная глава, если бы хоть какой–нибудь был у нас материал. Но
никакого.
Однако не впустую прошла смерть тирана. Неведомо отчего что–то скрытое где–то
сдвигалось, сдвигалось— и вдруг с жестяным грохотом, как пустое ведро, покатила кубарем
ещё одна личность — с самой верхушки лестницы да в самое навозное болото.