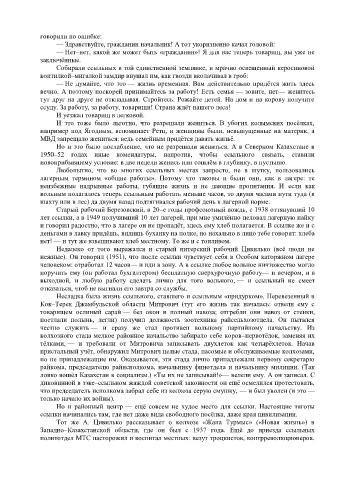Page 791 - Архипелаг ГУЛаг
P. 791
говорили по ошибке:
— Здравствуйте, гражданин начальник! А тот укоризненно качал головой:
— Нет–нет, какой же может быть «гражданин»! Я для вас теперь товарищ, вы уже не
заключённые.
Собирали ссыльных в той единственной землянке, и мрачно освещенный керосиновой
коптилкой–мигалкой замдир внушал им, как гвозди вколачивал в гроб:
— Не думайте, что это — жизнь временная. Вам действительно придётся жить здесь
вечно. А поэтому поскорей принимайтесь за работу! Есть семья — зовите, нет— женитесь
тут друг на друге не откладывая. Стройтесь. Рожайте детей. На дом и на корову получите
ссуду. За работу, за работу, товарищи! Страна ждёт нашего леса!
И уезжал товарищ в легковой.
И это тоже было льготно, что разрешали жениться. В убогих колымских посёлках,
например под Ягодным, вспоминает Ретц, и женщины были, невыпущенные на материк, а
МВД запрещало жениться: ведь семейным придётся давать жильё.
Но и это было послабление, что не разрешали жениться. А в Северном Казахстане в
1950–52 годах иные комендатуры, напротив, чтобы ссыльного связать, ставили
новоприбывшему условие: в две недели женись или сошлём в глубинку, в пустыню.
Любопытно, что во многих ссыльных местах запросто, не в шутку, пользовались
лагерным термином «общие работы». Потому что таковы и были они, как в лагере: те
неизбежные надрывные работы, губящие жизнь и не дающие пропитания. И если как
вольным полагалось теперь ссыльным работать меньше часов, то двумя часами пути туда (в
шахту или в лес) да двумя назад подтягивался рабочий день к лагерной норме.
Старый рабочий Березовский, в 20–е годы профсоюзный вождь, с 1938 оттянувший 10
лет ссылки, а в 1949 получивший 10 лет лагерей, при мне умилённо целовал лагерную пайку
и говорил радостно, что в лагере он не пропадёт, здесь ему хлеб полагается. В ссылке же и с
деньгами в лавку придёшь, видишь буханку на полке, но нахально в лицо тебе говорят: хлеба
нет! — и тут же взвешивают хлеб местному. То же и с топливом.
Недалеко от того выражался и старый питерский рабочий Цивилько (всё люди не
нежные). Он говорил (1951), что после ссылки чувствует себя в Особом каторжном лагере
человеком: отработал 12 часов— и иди в зону. А в ссылке любое вольное ничтожество могло
поручить ему (он работал бухгалтером) бесплатную сверхурочную работу— и вечером, и в
выходной, и любую работу сделать лично для того вольного, — и ссыльный не смеет
отказаться, чтоб не выгнали его завтра со службы.
Несладка была жизнь ссыльного, ставшего и ссыльным «придурком». Перевезенный в
Кок–Терек Джамбульской области Митрович (тут его жизнь так началась: отвели ему с
товарищем ослиный сарай — без окон и полный навоза; отгребли они навоз от стенки,
постлали полынь, легли) получил должность зоотехника райсельхозотдела. Он пытался
честно служить — и сразу же стал противен вольному партийному начальству. Из
колхозного стада мелкое районное начальство забирало себе коров–первотёлок, заменяя их
тёлками, — и требовали от Митровича записывать двухлеток как четырёхлеток. Начав
пристальный учёт, обнаружил Митрович целые стада, пасомые и обслуживаемые колхозами,
но не принадлежащие им. Оказывается, эти стада лично принадлежали первому секретарю
райкома, председателю райисполкома, начальнику финотдела и начальнику милиции. (Так
ловко вошёл Казахстан в социализм.) «Ты их не записывай!»— велели ему. А он записал. С
диковинной в зэке–ссыльном жаждой советской законности он ещё осмелился протестовать,
что председатель исполкома забрал себе из колхоза серую смушку, — и был уволен (и это —
только начало их войны).
Но и районный центр — ещё совсем не худое место для ссылки. Настоящие тяготы
ссылки начинались там, где нет даже вида свободного посёлка, даже края цивилизации.
Тот же А. Цивилько рассказывает о колхозе «Жана Турмыс» («Новая жизнь») в
Западно–Казахстанской области, где он был с 1937 года. Ещё до приезда ссыльных
политотдел МТС насторожил и воспитал местных: везут троцкистов, контрреволюционеров.