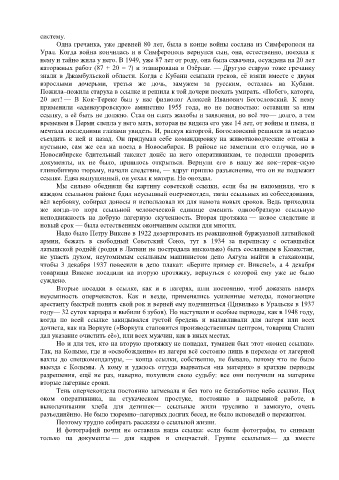Page 794 - Архипелаг ГУЛаг
P. 794
систему.
Одна гречанка, уже древней 80 лет, была в конце войны сослана из Симферополя на
Урал. Когда война кончилась и в Симферополь вернулся сын, она, естественно, поехала к
нему и тайно жила у него. В 1949, уже 87 лет от роду, она была схвачена, осуждена на 20 лет
каторжных работ (87 + 20 = ?) и этапирована в Озёрлаг. — Другую старую тоже гречанку
знали в Джамбульской области. Когда с Кубани ссылали греков, её взяли вместе с двумя
взрослыми дочерьми, третья же дочь, замужем за русским, осталась на Кубани.
Пожила–пожила старуха в ссылке и решила к той дочери поехать умирать. «Побег», каторга,
20 лет! — В Кок–Тереке был у нас физиолог Алексей Иванович Богословский. К нему
применили «аденауэровскую» амнистию 1955 года, но не полностью: оставили за ним
ссылку, а её быть не должно. Стал он слать жалобы и заявления, но всё это— долго, а тем
временем в Перми слепла у него мать, которая не видела его уже 14 лет, от войны и плена, и
мечтала последними глазами увидеть. И, рискуя каторгой, Богословский решился за неделю
съездить к ней и назад. Он придумал себе командировку на животноводческие отгоны в
пустыню, сам же сел на поезд в Новосибирск. В районе не заметили его отлучки, но в
Новосибирске бдительный таксист донёс на него оперативникам, те подошли проверить
документы, их не было, пришлось открыться. Вернули его в нашу же кок–терек–скую
глинобитную тюрьму, начали следствие, — вдруг пришло разъяснение, что он не подлежит
ссылке. Едва выпущенный, он уехал к матери. Но опоздал.
Мы сильно обеднили бы картину советской ссылки, если бы не напомнили, что в
каждом ссыльном районе бдил неусыпный оперчекотдел, тягал ссыльных на собеседования,
вёл вербовку, собирал доносы и использовал их для намота новых сроков. Ведь приходила
же когда–то пора ссыльной человеческой единице сменить однообразную ссыльную
неподвижность на добрую лагерную скученность. Вторая протяжка — новое следствие и
новый срок — была естественным окончанием ссылки для многих.
Надо было Петру Виксне в 1922 дезертировать из реакционной буржуазной латвийской
армии, бежать в свободный Советский Союз, тут в 1934 за переписку с оставшейся
латышской роднёй (родня в Латвии не пострадала нисколько) быть сосланным в Казахстан,
не упасть духом, неутомимым ссыльным машинистом депо Аягуза выйти в стахановцы,
чтобы 3 декабря 1937 повесили в депо плакат: «Берите пример ст. Виксне!», а 4 декабря
товарища Виксне посадили на вторую протяжку, вернуться с которой ему уже не было
суждено.
Вторые посадки в ссылке, как и в лагерях, шли постоянно, чтоб доказать наверх
неусыпность оперчекистов. Как и везде, применялись усиленные методы, помогающие
арестанту быстрей понять свой рок и верней ему подчиниться (Цивилько в Уральске в 1937
году— 32 суток карцера и выбили 6 зубов). Но наступали и особые периоды, как в 1948 году,
когда по всей ссылке закидывался густой бредень и вылавливали для лагеря или всех
дочиста, как на Воркуте («Воркута становится производственным центром, товарищ Сталин
дал указание очистить её»), или всех мужчин, как в иных местах.
Но и для тех, кто на вторую протяжку не попадал, туманен был этот «конец ссылки».
Так, на Колыме, где и «освобождение» из лагеря всё состояло лишь в переходе от лагерной
вахты до спецкомендатуры, — конца ссылки, собственно, не бывало, потому что не было
выезда с Колымы. А кому и удалось оттуда вырваться «на материк» в краткие периоды
разрешения, ещё не раз, наверно, похулили свою судьбу: все они получили на материке
вторые лагерные сроки.
Тень оперчекотдела постоянно затмевала и без того не беззаботное небо ссылки. Под
оком оперативника, на стукаческом простуке, постоянно в надрывной работе, в
выколачивании хлеба для детишек— ссыльные жили трусливо и замкнуто, очень
разъединённо. Не было тюремно–лагерных долгих бесед, не было исповедей о пережитом.
Поэтому трудно собирать рассказы о ссыльной жизни.
И фотографий почти не оставила наша ссылка: если были фотографы, то снимали
только на документы — для кадров и спецчастей. Группе ссыльных— да вместе