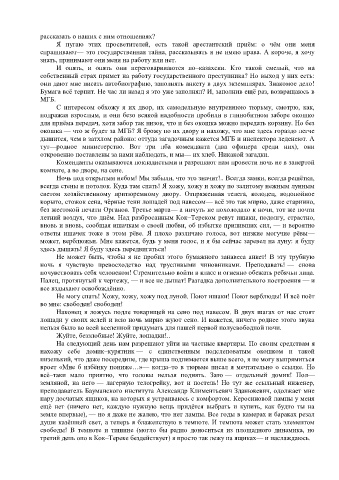Page 812 - Архипелаг ГУЛаг
P. 812
рассказать о наших с ним отношениях?
Я пугаю этих просветителей, есть такой арестантский приём: о чём они меня
спрашивают— это государственная тайна, рассказывать я не имею права. А короче, я хочу
знать, принимают они меня на работу или нет.
И опять, и опять они переговариваются по–казахски. Кто такой смелый, что на
собственный страх примет на работу государственного преступника? Но выход у них есть:
они дают мне писать автобиографию, заполнять анкету в двух экземпляpax. Знакомое дело!
Бумага всё терпит. Не час ли назад я это уже заполнял? И, заполнив ещё раз, возвращаюсь в
МГБ.
С интересом обхожу я их двор, их самодельную внутреннюю тюрьму, смотрю, как,
подражая взрослым, и они безо всякой надобности пробили в глинобитном заборе окошко
для приёма передач, хотя забор так низок, что и без окошка можно передать корзину. Но без
окошка — что ж будет за МГБ? Я брожу по их двору и нахожу, что мне здесь гораздо легче
дышится, чем в затхлом районо: оттуда загадочным кажется МГБ и инспектора леденеют. А
тут—родное министерство. Вот три лба коменданта (два офицера среди них), они
откровенно поставлены за нами наблюдать, и мы— их хлеб. Никакой загадки.
Коменданты оказываются покладистыми и разрешают нам провести ночь не в запертой
комнате, а во дворе, на сене.
Ночь под открытым небом! Мы забыли, что это значит!.. Всегда замки, всегда решётки,
всегда стены и потолок. Куда там спать! Я хожу, хожу и хожу по залитому нежным лунным
светом хозяйственному притюремному двору. Отпряженная телега, колодец, водопойное
корыто, стожок сена, чёрные тени лошадей под навесом— всё это так мирно, даже старинно,
без жестокой печати Органов. Третье марта— а ничуть не похолодало к ночи, тот же почти
летний воздух, что днём. Над разбросанным Кок–Тереком ревут ишаки, подолгу, страстно,
вновь и вновь, сообщая ишачкам о своей любви, об избытке приливших сил, — и вероятно
ответы ишачек тоже в этом рёве. Я плохо различаю голоса, вот низкие могучие рёвы—
может, верблюжьи. Мне кажется, будь у меня голос, и я бы сейчас заревел на луну: я буду
здесь дышать! Я буду здесь передвигаться!
Не может быть, чтобы я не пробил этого бумажного занавеса анкет! В эту трубную
ночь я чувствую превосходство над трусливыми чиновниками. Преподавать! — снова
почувствовать себя человеком! Стремительно войти в класс и огненно обежать ребячьи лица.
Палец, протянутый к чертежу, — и все не дышат! Разгадка дополнительного построения — и
все вздыхают освобождённо.
Не могу спать! Хожу, хожу, хожу под луной. Поют ишаки! Поют верблюды! И всё поёт
во мне: свободен! свободен!
Наконец я ложусь подле товарищей на сено под навесом. В двух шагах от нас стоят
лошади у своих яслей и всю ночь мирно жуют сено. И кажется, ничего роднее этого звука
нельзя было во всей вселенной придумать для нашей первой полусвободной ночи.
Жуйте, беззлобные! Жуйте, лошадки!..
На следующий день нам разрешают уйти на частные квартиры. По своим средствам я
нахожу себе домик–курятник — с единственным подслеповатым окошком и такой
низенький, что даже посередине, где крыша поднимается выше всего, я не могу выпрямиться
вроет «Мне б избёнку пониже…»— когда–то в тюрьме писал я мечтательно о ссылке. Но
всё–таки мало приятно, что головы нельзя поднять. Зато — отдельный домик! Пол—
земляной, на него — лагерную телогрейку, вот и постель! Но тут же ссыльный инженер,
преподаватель Бауманского института Александр Климентьевич Зданюкевич, одолжает мне
пару досчатых ящиков, на которых я устраиваюсь с комфортом. Керосиновой лампы у меня
ещё нет (ничего нет, каждую нужную вещь придётся выбрать и купить, как будто ты на
земле впервые), — но я даже не жалею, что нет лампы. Все годы в камерах и бараках резал
души казённый свет, а теперь я блаженствую в темноте. И темнота может стать элементом
свободы! В темноте и тишине (могло бы радио доноситься из площадного динамика, но
третий день оно в Кок–Тереке бездействует) я просто так лежу на ящиках— и наслаждаюсь.