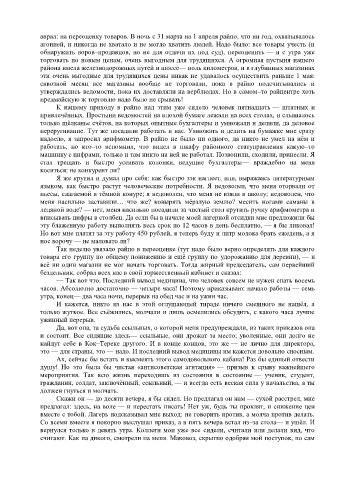Page 817 - Архипелаг ГУЛаг
P. 817
аврал: на переоценку товаров. В ночь с 31 марта на 1 апреля райпо, что ни год, охватывалось
агонией, и никогда не хватало и не могло хватить людей. Надо было: все товары учесть (и
обнаружить воров–продавцов, но не для отдачи их под суд), переоценить — и с утра уже
торговать по новым ценам, очень выгодным для трудящихся. А огромная пустыня нашего
района имела железнодорожных путей и шоссе— ноль километров, и в глубинных магазинах
эти очень выгодные для трудящихся цены никак не удавалось осуществить раньше 1 мая:
сквозной месяц все магазины вообще не торговали, пока в райпо подсчитывались и
утверждались ведомости, пока их доставляли на верблюдах. Но в самом–то райцентре хоть
предмайскую ж торговлю надо было не срывать!
К нашему приходу в райпо над этим уже сидело человек пятнадцать — штатных и
привлечённых. Простыни ведомостей на плохой бумаге лежали на всех столах, и слышалось
только щёлканье счётов, на которых опытные бухгалтеры и умножали и делили, да деловое
переругивание. Тут же посадили работать и нас. Умножать и делить на бумажке мне сразу
надоело, я запросил арифмометр. В райпо не было ни одного, да никто не умел на нём и
работать, но кто–то вспомнил, что видел в шкафу районного статуправления какую–то
машинку с цифрами, только и там никто на ней не работал. Позвонили, сходили, принесли. Я
стал трещать и быстро усеивать колонки, ведущие бухгалтеры— враждебно на меня
коситься: не конкурент ли?
Я же крутил и думал про себя: как быстро зэк наглеет, или, выражаясь литературным
языком, как быстро растут человеческие потребности. Я недоволен, что меня оторвали от
пьесы, слагаемой в тёмной конуре; я недоволен, что меня не взяли в школу; недоволен, что
меня насильно заставили… что же? ковырять мёрзлую землю? месить ногами саманы в
ледяной воде? — нет, меня насильно посадили за чистый стол крутить ручку арифмометра и
вписывать цифры в столбец. Да если бы в начале моей лагерной отсидки мне предложили бы
эту блаженную работу выполнять весь срок по 12 часов в день бесплатно, — я бы ликовал!
Но вот мне платят за эту работу 450 рублей, я теперь буду и литр молока брать ежедень, а я
нос ворочу — не маловато ли?
Так неделю увязало райпо в переоценке (тут надо было верно определять для каждого
товара его группу по общему понижению и ещё группу по удорожанию для деревни), — и
всё ни один магазин не мог начать торговать. Тогда жирный председатель, сам первейший
бездельник, собрал всех нас в свой торжественный кабинет и сказал:
— Так вот что. Последний вывод медицина, что человек совсем не нужен спать восемь
часов. Абсолютно достаточно — четыре часа! Поэтому приказываю: начало работы — семь
утра, конец— два часа ночи, перерыв на обед час и на ужин час.
И кажется, никто из нас в этой оглушающей тираде ничего смешного не нашёл, а
только жуткое. Все съёжились, молчали и лишь осмелились обсудить, с какого часа лучше
ужинный перерыв.
Да, вот она, та судьба ссыльных, о которой меня предупреждали, из таких приказов она
и состоит. Все сидящие здесь— ссыльные, они дрожат за место; уволенные, они долго не
найдут себе в Кок–Тереке другого. И в конце концов, это же — не лично для директора,
это — для страны, это — надо. И последний вывод медицины им кажется довольно сносным.
Ах, сейчас бы встать и высмеять этого самодовольного кабана! Раз бы единый отвести
душу! Но это была бы чистая «антисоветская агитация» — призыв к срыву важнейшего
мероприятия. Так всю жизнь переходишь из состояния в состояние — ученик, студент,
гражданин, солдат, заключённый, ссыльный, — и всегда есть веская сила у начальства, а ты
должен гнуться и молчать.
Скажи он — до десяти вечера, я бы сидел. Но предлагал он нам — сухой расстрел, мне
предлагал: здесь, на воле — и перестать писать! Нет уж, будь ты проклят, и снижение цен
вместе с тобой. Лагерь подсказывал мне выход: не говорить против, а молча против делать.
Со всеми вместе я покорно выслушал приказ, а в пять вечера встал из–за стола— и ушёл. И
вернулся только в девять утра. Коллеги мои уже все сидели, считали или делали вид, что
считают. Как на дикого, смотрели на меня. Маковоз, скрытно одобряя мой поступок, но сам