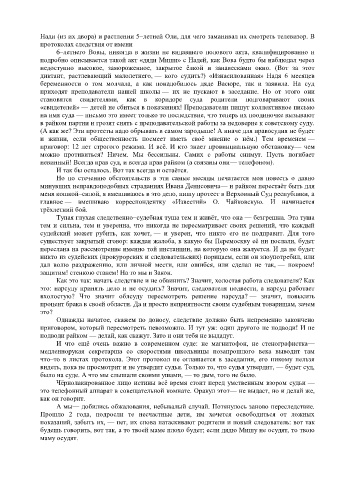Page 877 - Архипелаг ГУЛаг
P. 877
Нади (из их двора) и растлении 5–летней Оли, для чего заманивал их смотреть телевизор. В
протоколах следствия от имени
6–летнего Вовы, никогда в жизни не видавшего полового акта, квалифицированно и
подробно описывается такой акт «дяди Миши» с Надей, как Вова будто бы наблюдал через
недоступно высокое, замороженное, закрытое ёлкой и занавесками окно. (Вот за этот
диктант, растлевающий малолетнего, — кого судить?) «Изнасилованная» Надя 6 месяцев
беременности о том молчала, а как понадобилось дяде Васюре, так и заявила. На суд
приходят преподаватели нашей школы — их не пускают в заседание. Но от этого они
становятся свидетелями, как в коридоре суда родители подговаривают своих
«свидетелей» — детей не сбиться в показаниях! Преподаватели пишут коллективное письмо
на имя суда — письмо это имеет только то последствие, что теперь их поодиночке вызывают
в райком партии и грозят снять с преподавательской работы за недоверие к советскому суду.
(А как же? Эти протесты надо обрывать в самом зародыше! А иначе для правосудия не будет
и жизни, если общественность посмеет иметь своё мнение о нём.) Тем временем —
приговор: 12 лет строгого режима. И всё. И кто знает провинциальную обстановку— чем
можно противиться? Ничем. Мы бессильны. Самих с работы снимут. Пусть погибает
невинный! Всегда прав суд, и всегда прав райком (а связаны они— телефоном).
И так бы осталось. Вот так всегда и остаётся.
Но по стечению обстоятельств в эти самые месяцы печатается моя повесть о давно
минувших неправдоподобных страданиях Ивана Денисовича— и райком перестаёт быть для
меня кошкой–силой, я вмешиваюсь в это дело, пишу протест в Верховный Суд республики, а
главное — вмешиваю корреспондентку «Известий» О. Чайковскую. И начинается
трёхлетний бой.
Тупая глухая следственно–судебная туша тем и живёт, что она — безгрешна. Эта туша
тем и сильна, тем и уверенна, что никогда не пересматривает своих решений, что каждый
судейский может рубить, как хочет, — и уверен, что никто его не подправит. Для того
существует закрытый сговор: каждая жалоба, в какую бы Перемоскву её ни послали, будет
переслана на рассмотрение именно той инстанции, на которую она жалуется. И да не будет
никто из судейских (прокурорских и следовательских) порицаем, если он злоупотребил, или
дал волю раздражению, или личной мести, или ошибся, или сделал не так, — покроем!
защитим! стенкою станем! На то мы и Закон.
Как это так: начать следствие и не обвинить? Значит, холостая работа следователя? Как
это: нарсуду принять дело и не осудить? Значит, следователя подвести, а нарсуд работает
вхолостую? Что значит облсуду пересмотреть решение нарсуда? — значит, повысить
процент брака в своей области. Да и просто неприятности своим судебным товарищам, зачем
это?
Однажды начатое, скажем по доносу, следствие должно быть непременно закончено
приговором, который пересмотреть невозможно. И тут уж: один другого не подводи! И не
подводи райком — делай, как скажут. Зато и они тебя не выдадут.
И что ещё очень важно в современном суде: не магнитофон, не стенографистка—
медленнорукая секретарша со скоростями школьницы позапрошлого века выводит там
что–то в листах протокола. Этот протокол не оглашается в заседании, его никому нельзя
видеть, пока не просмотрит и не утвердит судья. Только то, что судья утвердит, — будет суд,
было на суде. А что мы слышали своими ушами, — то дым, того не было.
Чёрнолакированное лицо истины всё время стоит перед умственным взором судьи —
это телефонный аппарат в совещательной комнате. Оракул этот— не выдаст, но и делай же,
как он говорит.
А мы— добились обжалования, небывалый случай. Потянулось заново переследствие.
Прошло 2 года, подросли те несчастные дети, им хочется освободиться от ложных
показаний, забыть их, — нет, их снова натаскивают родители и новый следователь: вот так
будешь говорить, вот так, а то твоей маме плохо будет; если дядю Мишу не осудят, то твою
маму осудят.